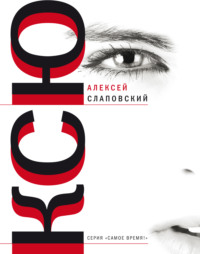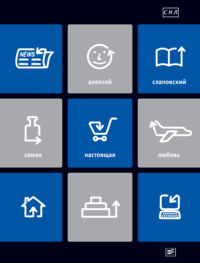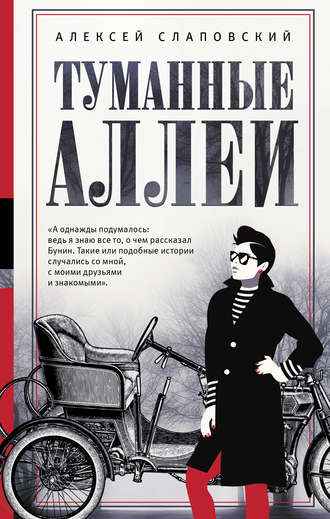
Полная версия
Туманные аллеи
– А этот, который за вами шел?
– Пропал куда-то. Коля сигналил ему, нет, никого не видно. Испугался, надо знать.
– Ну, допустим. И что?
– Как что? С чего бы Коле ехать к нам? А я скажу: Бог ему шепнул.
– Ерунда.
– Ну, считай, что так. А я тебе говорю: Бог все видит, все знает. Ты вот запрешься у себя, думаешь спрячешься, а нет, как на ладонке ты у него!
Она засмеялась и погрозила мне пальцем.
Я тоже засмеялся и ушел в свою комнатку.
Осмотрел ее.
В двери щелей нет.
На окнах шторы и тюль. Всегда ли я задергиваю шторы? А через тюль снаружи – можно что-то разглядеть? Я вышел на балкон, посмотрел оттуда. Видно плохо, но сейчас вечер и свет не горит. Вернулся в комнату, зажег свет, снова вышел. Теперь все на виду. Но это вблизи.
Я оделся, спустился на улицу, вглядывался оттуда, отходя все дальше. Оказался у дома напротив. Нет, при всем желании ничего нельзя увидеть.
А если в бинокль?
Но кто будет смотреть в бинокль?
Да мало ли. Подглядел что-нибудь и рассказал бабушке, вот она и грозит мне пальцем. Будто что-то знает.
Скорее всего, ничего она не знает, а только делает вид. Ошибка старших и старых в том, что они считают себя умнее детей. А хитрые дети им поддакивают, соглашаясь, – лишь бы отстали.
Утром я пошел в школу. По асфальтовой тропинке мимо дома напротив.
Из подъезда вышел Юрков из параллельного класса. Мы не дружили, у нас были разные компании. Привет-привет, и все.
Я ему кивнул, он мне кивнул, я пошел себе дальше, он за мной.
А может, подумал я, он и есть тот, кто следит за мной? Недаром же всегда ехидно улыбается. Правда, он со всеми так. Такой характер у человека, такой настрой – на все смотрит с усмешкой, все ему не нравится, вечно на что-то жалуется, но с удовольствием, будто рад, что есть на что пожаловаться. Знаю я таких людей – сами ничего интересного не делают, но любят наблюдать и прохаживаться на чужой счет.
Вот он и наблюдает.
Противно: нет бы обогнать или отстать, идет в трех шагах сзади, сопит, что-то себе под нос бормочет или напевает, такая у него привычка.
Я и потом замечал, как неловко бывает, когда два человека оказываются на улице рядом и идут с одинаковой скоростью. Будто они вместе. Глупо и странно. В таких случаях или прибавляешь шаг, или, наоборот, идешь медленнее.
Юрков шел и шел следом.
Но наконец школа, и через пару уроков я выкинул все это из головы.
А назавтра Юрков опять встретился. И опять шел сзади до самой школы.
А потом еще раз.
По вечерам, да и днем, я начал плотно задергивать шторы. Пусть теперь смотрит – ничего не разглядит.
И опять он мне встретился с утра. Причем, как нарочно, вышел чуть после, чтобы пристроиться за мной. Совсем обнаглел. Я шел, злился, не выдержал, остановился, повернулся.
– Тебе чего надо?
Он, не понимая, выпучил глаза.
– Чего?
– Это ты чего? Подсматриваешь за мной?
– Когда?
– Я вечером тебя на балконе видел, ты на меня смотрел.
– Офигел? У нас окна в квартире вообще на ту сторону!
– Как это? Сколько у вас комнат?
– Одна! И кухня! И окна туда, а не сюда!
– Ладно, допустим. А из подъезда?
– Чего из подъезда?
Я понял, что он не виноват.
И успокоился.
Хотя – не он же один живет в доме напротив!
Это был, наверное, подростковый психоз. Я постоянно ходил, как бы прогуливаясь, возле дома напротив, вглядываясь во встреченных жителей, пытаясь угадать, кому до меня может быть дело.
А потом умерла бабушка.
Через год мы переехали в квартиру, окна которой выходили с одной стороны на пустырь, с другой на высокие деревья, густые и непроглядные даже зимой.
Все решилось само собой.
Анжела
– Василий Ликсеич… за-ради Христа… за-ради самого Царя Небесного, возьмите меня замуж!
И. Бунин. «Степа»Леня Черкунов проснулся и тут же вспомнил, как непоправимо вчера накосячил.
Конечно, и похмелье тут же навалилось, но оно, терзая тело, радовало мучающуюся душу – будто он уже частично получил по заслугам, искупил вину.
А вот за остальное придется платить по полной.
Вчера он ехал на свою дачу мимо станции Репьи, увидел Анжелу, местную пацанку, дочку продавщицы поселкового магазинчика. Эта Анжела часто заменяла сильно пьющую мамашу, стояла за прилавком, и Леня не упускал возможности перекинуться парой слов с красивенькой девчушкой, очень ладно сложенной. Недаром же она носит или облегающие брючки, тонкие, черного или алого цвета, или очень короткую юбочку – в ней, кажется, нельзя и шага сделать, чтобы не показать то, на что юбочка надета, но Анжела как-то умудрялась вполне свободно двигаться и при этом ничего лишнего не показывать.
Она шла от станции – как раз в такой вот рискованной юбочке и белом топике, обнажающем смуглую тонкую талию. С хозяйственной сумкой в руке. Леня остановился, предложил подвезти. Анжела засмеялась, впорхнула в его внедорожник, не шелохнувшийся, не почувствовавший ее невесомой тяжести.
По дороге рассказала, что мамаха, так она звала свою мать Людмилу, третий день беспросыпно пьет по причине закрытия магазина то ли на учет, то ли на санитарную обработку. А может, и навсегда, хозяевам виднее. Давно пора, торговля тут никакая, поселок маленький, дачники только летом, да и они многое везут из Москвы. А как отгрохали на пути к Репьям огромный супермаркет, то вообще весь торговый бизнес в районе рухнул.
– И куда же вы теперь? – спросил Леня.
– Не знаю. Она раньше ремонтницей или обходчицей была на железной дороге, теперь не возьмут, здоровья не хватит. Будем тут пока. У меня школа в Шипурино, закончить надо.
– Далеко.
– Две станции всего, я привыкла. И главное, меня там все знают, помогут с экзаменами, с ЕГЭ этим дурацким. А в другой школе я последней дурочкой буду, мне оно надо?
– Ты дурочкой не кажешься.
– Да я тупая вообще! – смеялась и хвасталась Анжела. – Я дважды два без калькулятора не сосчитаю!
Пухлые ее губы были ярко накрашены, глаза густо подведены, щеки чем-то подмазаны. Грубая деревенская красота, думал Леня. Но кожа на талии, на голых ногах – чистая, гладкая, это неподдельное, настоящее.
И он рискнул – рассказывая что-то смешное, приобнял ее за талию, не отводя глаз от дороги.
– Э, э, спокойно! – прикрикнула Анжела.
Но строгости в голосе не было, почудилось даже легкое одобрение.
Она и не к такому привыкла, думал Леня. Поселковые, они незамысловатые. Семки, пивасик, пацаны без лишних разговоров сомнут под забором, сорвут трусишки и сделают, что захотят. И только пикни – оторвут голову и тебе, и твоей несчастной мамахе.
Въехали в поселок. Дорога разбитая, везде хлам. Там ржавый остов машины стоит дисками на кирпичах, там брошенный тракторный кузов давно уже служит мусоросборником, а там неожиданно новенький и дорогой автомобиль нелепо торчит у хибары, которая, если ее продать, стоит не дороже одного колеса этого автомобиля. Впрочем, платят тут за землю – Подмосковье все-таки. Раньше поселковые жили дачами москвичей – летом нанимались что- нибудь ремонтировать, строить, вскапывать-пропалывать, а зимой просто-напросто воровали из дач все, что плохо и хорошо лежит. Но члены садового товарищества тряхнули мошной, сбросились на высокий забор вокруг обширного дачного массива, оборудовали въезд с охранником и шлагбаумом – и все, перекрыли кислород. Кто-то еще ездил на заработки в Москву, остальные бездельничали и спивались или получали пенсию по старости, что, впрочем, спиваться не мешало.
Тоска, безысходность, с гражданской скорбью думал Леня, глядя на безлюдную улицу и неказистые дома. И на тебе, в этом гниюшнике – такой вот цветок. Или, лучше сказать, плод. Персик.
Анжела сама предложила зайти.
Леня даже слегка растерялся, спросил:
– Зачем?
– В шахматы поиграем! – захохотала Анжела. – Да просто посидим, кофе выпьешь, если хочешь. Или чего-нибудь еще, я мамахе на неделю запас привезла, – она тряхнула сумкой, послышался стеклянный звон. – А то я с ума схожу, все разъехались, телевизор только один канал показывает, интернета нет, сигнал тут вообще почти не ловится. Как дикие живем.
Анжела не пустила его в дом, вошла одна. Слышно было, как Людмила за что-то ее ругает, а она кричит: «Молчи, дура, надоела! Нет бы спасибо сказать!»
Вышла спокойная, будто ничего не было.
Устроились на лужайке за домом, возле деревянного сарая, который Анжела назвала летней кухней.
– Я тут с весны до осени сплю. У мамахи сроду алкаши какие-то. Ну, за знакомство?
– Я за рулем.
– Тебе ехать сто метров. Ты же в дачах живешь?
– Да. Ладно, немного можно.
Выпили, поговорили, еще выпили. Анжела рассказала о школе, о приятелях, Леня о своей работе, о бывшей жене.
– Ты еще и холостой! – обрадовалась Анжела. – Ну все, тогда ты попал!
– С удовольствием, – ответил Леня, обнял ее, поцеловал, повалил, полез под топик.
– Не здесь, мы же не обезьяны какие-то, – сказала Анжела.
Повела его в летнюю кухню. Там был старый диван, который она разложила, и тот занял собой почти все пространство. Постелила простыню, кинула две большие подушки.
– Для кого держишь? – спросил Леня.
– Подруги иногда ночуют.
– Ну да, знаю я этих подруг. У тебя вообще кто-то есть?
– Слушай, не тема!
Показала она себя, как и ожидал Леня, горячей, опытной, ненасытной. Незаметно сгустилась тьма, наступила ночь.
Посплю я здесь, пожалуй, решил захмелевший от выпитого и от ласк Леня. Но под боком было что-то мокрое. Раньше не чувствовалось, горячее потому что, а теперь остыло. Он посмотрел – что-то темное. Посветил телефоном.
– Не понял. У тебя женские дела?
– Нет.
– А что?
– Что, что. То!
– Да ладно!
– Вот и ладно. Первый раз у меня.
И рассказала Анжела: все подруги над ней смеются, что она до сих пор нераспечатанная. А она просто решила – пусть первый раз будет с тем, кто нравится. Даже не обязательно любовь, но – чтобы нравился. И все никто не попадался.
– А я тебе, значит, нравлюсь?
– Еще как. Давно уже.
– Постой. А тебе сколько? Шестнадцать есть?
– Будет через месяц.
В голове Лени тут же закрутились юридические выражения: «возраст согласия», «изнасилование несовершеннолетней» и так далее. Хотел сразу же посмотреть в телефоне, но Анжела была права – сеть тут совсем не тянет.
– Ты чего? – Анжела стискивала его, тыкалась носом в щеку, лизала языком, как щенок. Дурачилась. – Думаешь, в полицию тебя потащу?
– Да нет. Просто… Неожиданно как-то.
Он вышел из сарая, выпил махом стакан водки, постоял. Запрокинул голову, чтобы посмотреть на звезды, но небо заволокло сплошными тучами. И ветер налетал холодный, отчего листья яблонь густо шелестели, и падали первые капли дождя.
Леня побрел, спотыкаясь, к машине.
Гнал так, будто очень спешил, в кого-то чуть не врезался на повороте. Не сбавляя скорости, схватил телефон, разбудил звонком приятеля и юриста их фирмы Вадю Панина, спросил, когда наступает возраст согласия и что бывает, если ты девушку до него это самое.
– От девушки зависит, – сонно ответил Панин. – Вообще-то срок, тюрьма. Главное, она заявление подала?
– Нет. И не собирается.
– И ты меня будишь по такому пустяку? Урод! – добродушно проворчал Вадя и отключился.
Как подъехал к даче, как вошел, как упал, Леня помнит смутно.
И вот видит себя в одежде на постели.
С больной головой и вопросом: что теперь делать?
Решил сделать то, к чему привык во всех жизненных обстоятельствах: договориться. Наскоро умылся, переменил одежду, выпил кофе, поехал к дому Анжелы.
Она еще сладко спала в своем сарае. Долго приходила в себя, потягивалась, улыбалась.
– Послушай, – сказал Леня. – Только внимательно.
– А в сортир можно сначала? И умыться?
– Иди.
Она ушла. Минут десять ее не было, Леня истомился ждать.
И пока ждал, осознал, что говорить будет вовсе не о том, о чем собирался.
Наконец она вернулась. Села рядом, обняла. Леня отстранил ее.
– Постой. Слушай. Ты переезжаешь ко мне. Будешь ходить в московскую школу. Через месяц, когда тебе будет шестнадцать, оформим наши отношения. Закончишь школу, потом я найму тебе репетиторов, поступишь – куда ты хочешь?
– Еще не знаю. И не надо мне так. То есть, конечно, в Москву интересно, но куда я мамаху дену? А бабу Олю?
– Какую бабу Олю?
– Бабку мою родную, она в параличе, второй год помирает, а помереть не может.
– Наймем сиделку, – растерянно сказал Леня, понимая, что все сложнее, чем он себе представлял. Казалось: будет рядом чистая и вкусная девочка, и телу приятно, и душе лестно – воспитать человечка. Но, похоже, у человечка многовато проблем.
– Сиделка не вариант, – объясняла меж тем Анжела. – Мы пробовали, и соседку звали, и еще одну женщину, а баба Оля в них калом кидается.
– Чем?
– Говном! Она во всех кидается, даже в мамаху, только меня признает. Нет, она, скорее всего, уже помрет скоро, но я все равно – не хочу.
– Почему?
– А зачем? В качестве кого? Секс на дому?
– Ты чем слушала? Я жениться хочу на тебе.
– Еще лучше! Мы разные люди, Леня! Вот у нас Татьяна Сырцова такая жила, тоже дачник ее подобрал, тоже женился, квартира в Москве в элитном доме, какой-то супер-пупер-палас, бизнес у него крутой, все дела. И что? Через год сбежала. Говорит: на хрен мне такой компот, сижу и жду его при кухне, голубцы верчу, любит он их, сучок. Раз в месяц выведет на люди, а остальное время как в тюрьме!
– Ты не будешь как в тюрьме. Я же сказал: поступишь, будешь учиться, развиваться.
– Я и так поступлю и разовьюсь.
– Дура! – не сдержался Леня. – Ты тут сопьешься! Тут дыра, помойка! Школа в Шипурино, всего две станции, ага! Вы опупели, что ли, вам нормальную жизнь предлагают, а вы рогами уперлись!
– Не ори! Кто мы-то? И не сопьюсь я, не увлекаюсь этим делом, только вот с тобой, и то за компанию. И не курю, если ты заметил. Не поняла, ты что, думаешь, я на тебя в суд, что ли, подам за изнасилование? Испугался?
– И опять дура! Я тебя люблю, если хочешь знать!
– Когда это ты успел? Даже если так – твоя проблема. Ты любишь, а я нет. Нравишься, да, но любить и замуж – другая история. Я не спешу вообще.
Долго Леня убеждал Анжелу, она отговаривалась, а потом сказала, что хватит, ей пора посмотреть, что там с Люськой. И бабу Олю кормить пора, подгузники ей менять.
– Иди меняй. Зарастешь тут калом!
– И зарасту. Противный ты оказался. Значит, правильно я решила.
После этого Леня поехал в Москву, к Ваде, рассказал ему все, опять крепко выпил по случаю субботнего дня. Вадя рад был компании, потому что в одиночку жена ему пить не разрешала.
Уже вечерело, когда они сидели на балконе, глядя с высоты двадцать третьего этажа дома Вади, стоящего крайним у МКАДа, как солнце медленно спускается за длинный гребень далекого лесистого холма, как выделяются вершины деревьев и очерчивается кромка леса на фоне примыкающего к земле багрового неба, и на пространство от домов до леса уже налегает ночь, а там, за лесами, еще вечер и даже день – им отсюда не видный.
– Другой бы радовался, – удивлялся Вадя, – а ты с ума сходишь. Жаба заела? Самолюбие уязвили? Она мудрая девочка, тебе повезло. Наверно, минет классно делает? Я заметил, – сказал он, оглянувшись и понизив голос, – чем умней девушка, тем лучше делает минет.
– Не факт! – авторитетно возразил Леня.
– Не факт, – тут же согласился Вадя. – Просто хочется найти хоть в чем-то закономерность. А закономерности ни в чем нет. Ни в природе. Ни в юриспруденции, – это слово Вадя выговаривал четко в любом состоянии. – Ни в человеческих отношениях. Но это и ценно! – заключил он.
Леня остался ночевать у друга.
Проснулся рано и почти без похмелья.
Привел себя в порядок и поехал в Репьи с твердым решением еще раз поговорить с Анжелой и добиться ее согласия.
Надежда
Она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала…
И. Бунин. «Муза»Это было давно, в советское время, на областном семинаре молодых поэтов, куда приглашали всех желающих. Володя Корнеев пришел, хотя стихов никогда не писал. Читать их и слушать тоже не особо интересовался, но надеялся, что там будут симпатичные девушки. И прогадал, таковых не оказалось.
Мероприятие проводилось в зале Дома офицеров, похожем на театральный, – сцена, ряды красных кресел и два балкона по бокам.
Володя со скукой слушал ритмичные завывания очередного поэта, здоровенного парня с крутыми плечами и странно тонким, почти женским голосом. Сзади скрипнуло, поэт сбился. Володя оглянулся и увидел высокую, красивую девушку с длинными, волнистыми рыжеватыми волосами, в белой блузке и белых брюках. Она извинилась с улыбкой, прошла и села с краю, рядом с Володей. Мощный поэт продолжил, но Володе показалось, что он сразу же утратил весь свой пыл. До этого был упоен собой и своими стихами, а теперь в глазах появилась обиженная тоска и читалось: какого черта я занимаюсь этой ерундой, когда есть на свете такая нестерпимо красивая девушка, которая никогда не будет моей, пусть я хоть трижды гениален?
Володя украдкой вытер влажную руку о штаны, протянул ей:
– Владимир.
– Надежда.
Рука ее была легкой, сухой и теплой.
Руководитель семинара вызывал всех по порядку размещения, сначала слева направо первый ряд, потом второй, третий. Дошел черед до нее.
– Я стихов не пишу, – сказала Надежда. – Я послушать.
Володя тоже отказался:
– Извините, наизусть не помню, а тексты не взял.
– Если поэт не помнит собственных стихов, значит они написаны не душой, а буквами, – изрек руководитель, сорокалетний мужчина бухгалтерской внешности, с чахлым чубчиком, зачесанным с темени на лоб. – Когда стихи написаны душой, они сразу впечатываются в память. Навсегда!
И в доказательство прочел наизусть несколько своих стихотворений, глядя на всех общим взглядом и делая вид, что ничем не выделяет Надежду, но Володя понимал, что читает он именно для нее.
Закончив, руководитель дал возможность выступить оставшимся поэтам и поэтессам. По одному стихотворению, справа налево, по порядку размещения.
Надежда слушала спокойно, задумчиво. Потом слегка покачала головой, будто говоря: нет, не то. И спросила Володю:
– Тебе нравится?
– Нет.
– Тогда пойдем?
– Конечно.
Они вышли – без демонстрации, вежливо, чуть пригибаясь, как это делают в кино, когда уходят с сеанса и не желают мешать другим.
У здания был сквер, они сели там на скамейку старинного устройства, с чугунными завитушками. Она спросила:
– Ты в самом деле наизусть ничего не помнишь?
– Помнить нечего, не пишу я стихов.
– Но любишь?
– Нет. Я на симпатичных девушек пришел посмотреть, – весело признался Володя.
– Посмотрел?
– Не было их там. Зато сейчас вижу. Не зря пришел.
Надежда не улыбнулась, не усмехнулась, смотрела на Володю внимательно, ему от этого было немного неловко, но он храбрился, был даже нахальнее, чем обычно.
– Я тоже не пишу стихов, но люблю, – сказала Надежда. – Люблю, когда у других есть какой-то талант. У тебя есть в чем-то талант?
– Конечно. В жизни. Я талантливо живу.
– Это как?
– Делаю только то, что хочу.
– Сейчас чего хочешь?
– Много чего.
– Например?
– Тебя поцеловать, конечно.
– Да? Ну, попробуй.
Они целовались долго, вдумчиво, старательно.
Потом курили.
– Ты мне нравишься, – сказала Надежда. – Естественно себя ведешь. Немного на себя напускаешь чего-то, но напускаешь тоже естественно. Как дети хвалятся. Они хвалятся, а сами наивные такие. Ты неиспорченный, наверно.
– Надейся, надейся, – посмеивался Володя.
И опять целовались.
Надежда спросила:
– А вдруг я соглашусь? Не боишься?
– С чего бы?
– Прямо-таки не с чего?
– Абсолютно.
– Все, убедил. Надо попробовать.
– Да хоть сейчас! Вопрос – где? Можно ко мне, но скоро родители с работы придут.
– А у меня родители на юге, в отпуске. Я одна.
– Далеко живешь? – деловито спросил Володя.
– Нет, но сейчас у меня срок не тот. Через три дня.
Позже Володя узнал, что она серьезно относилась к своей безопасности, считала дни, придерживалась так называемой календарной контрацепции, о которой знали многие советские девушки. Сводилась она к формуле «пять дней до – пять дней после». Другой контрацепции в те времена не существовало или была такая, что отбивала охоту ко всему.
Наконец они встретились, чтобы осуществить задуманное.
И осуществили.
Володя был самоотвержен, старательно трудился над ее удовольствием, добился результата и начал догонять ее, а Надежда терпеливо пережидала – у нее, как она честно объяснила, была реакция мужского типа. Яркая, но одноразовая.
И тут бы начать историю отношений, но отношений не получилось. Они встречались две недели, почти каждый день, а потом Володя кем-то увлекся, Надежда кем-то увлеклась, да плюс учеба в институте, друзья, посиделки…
Надежда вышла замуж, родила дочь, развелась, сделала очень успешную карьеру в области фармацевтики, Володя тоже достиг определенных успехов. Потом она уехала в Москву, а он остался в своем постылом, пыльном, но привычном, а иногда даже милом городе, остался с женой, с двумя детьми, а теперь уже и внуками.
Он не раз рассказывал об этом случае друзьям, знакомым и попутчикам, в случайных компаниях, считая его необычным, слушавшие вежливо удивлялись, но ничего необычного не видели, у каждого в прошлом было что-то похожее.
А он все рассказывал – и рассказывает до сих пор, хотя прошло уже больше тридцати лет. Он рассказывает, все яснее понимая, что за эти долгие и разнообразные годы, за всю насыщенную большими и маленькими событиями жизнь ему никогда и ни с кем не было так хорошо и интересно. И ведь ей тоже с ним было хорошо и интересно. Он пытается вспомнить, из-за чего и почему они расстались, но не может вспомнить. Ни из-за чего, просто – так получилось.
Воскресенское кладбище
…Передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене.
И. Бунин. «Поздний час»Ерничать, все вышучивать было обычным занятием для молодежи семидесятых-восьмидесятых. Оно, скажут, и сейчас так. Нет. Сейчас прикалываются, а это не одно и то же.
Мы с другом Витей любили выпивать на старом Воскресенском кладбище, уже в ту пору закрытом для захоронений. Изредка к некоторым могилам все же подселяли, то есть помещали новопреставленных рядом с упокоившимися ранее родственниками. За большие деньги. Находили места и для крупных партийно-советских чиновников, чтобы близкие не обременялись потом навещать их на жареном бугре, как выражались в народе, то есть на загородных далеких кладбищах. А в девяностые на Воскресенском выросла целая аллея черных обелисков над могилами криминальных авторитетов, чьи портреты увековечены были в мраморе – со златыми цепями на бычьих шеях и с ключами от «мерседесов» в аристократически (или воровски) удлиненных пальцах. По аналогии с соседней Аллеей Героев, где были захоронены Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, ее назвали «аллей Бандитов». Она располагалась наискосок от краснокирпичных арочных ворот. Эту арку будто бы разбирали, а потом восстановили, когда надо было провезти особенно высокий бандитский памятник. Я этого не помню. Врать не хочу, а правду говорить не умею, как высказывался с усмешкой Витя, человек остроумный, да и просто очень умный.
Мы были молодыми и мы были бездельными – я иногда, а Витя постоянно. Хотя он много читал. Одной из самых любимых его книг была «Темные аллеи» Бунина. Он хорошо разбирался в предмете, который там в основном описывается, намного лучше меня. И был по отношению к этому предмету, то есть, назовем прямо, девушкам и женщинам, легок, непостоянен, никто у него надолго не задерживался, рассказывал он о своих приключениях с юмором довольно охальным, но беззлобным.
Выпивать на этом кладбище мы любили потому, что оно все густо заросло деревьями и кустами, здесь было уютно и сюда, главное, очень редко наведывались милицейские патрули. Они знали, что тут водятся пьяницы, но им лень было искать их в тесных закоулках между оградами и деревьями.
И вот мы пришли однажды золотой осенью, в солнечный день, выпили какого-то дрянного вина – а другого тогда и не бывало в свободной продаже, – бродили среди могил. Витя постоянно что-то цитировал, декламировал, то – земную жизнь пройдя до середины, то – нет, не бывать тому, что было прежде, то – стою печален на кладбище…