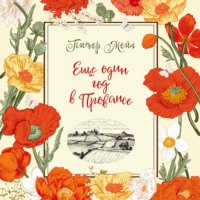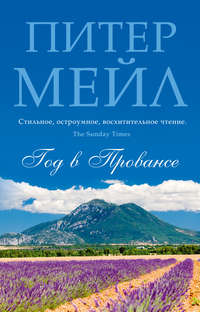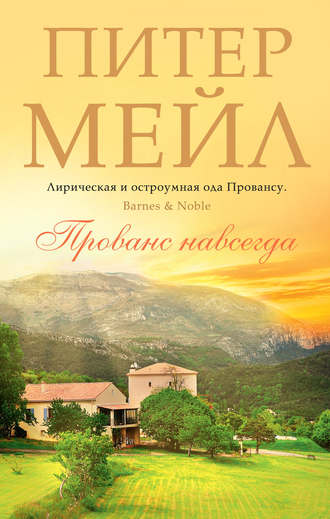
Полная версия
Прованс навсегда
Лошадки стояли в саду, в тени деревьев. Ближайшая сразу же заржала и ткнулась в Мориса в поисках сахара. Самая юная гостья, восседавшая на плечах родителя, загукала при виде этаких чудищ, потянулась пальцем к лоснящемуся лошадиному боку. Лошадь приняла ее палец за муху и смахнула хвостом.
Морис и сивоусый Ив Монтан запрягли лошадей в открытую коляску, черную, отделанную красным, и в закрытый семиместный дилижанс, красный с черной отделкой. Обе повозки сверкали так же, как и лошади. Морис всю зиму работал над ними и довел их до безупречного состояния, или, как он это формулировал, «impecc»[41]. Единственное современное добавление – автомобильный клаксон в виде дудки, дабы предупреждать о предстоящем обгоне другие, более медлительные средства передвижения и предостерегать бесшабашных куриц от намерения пересечь дорогу.
– Allez! Montez![42]
Мы последовали приглашению, заняли места, и экипажи, соблюдая ограничение скорости в пределах населенного пункта, двинулись по деревне. Собака с дровяного штабеля гавкнула нам прощальный привет, и экипажи выехали на сельскую дорогу.
Такого рода путешествие заставляет жалеть об изобретении автомобиля. Все видишь иначе, ибо сидишь гораздо выше, двигаешься медленнее, и окружающее предстает в гораздо более интересном свете. Действует преимущественно колебательный ритм – покачивание на подвеске, согласованное с шагом лошадей и рельефом дороги. Приятен и старомодный звуковой фон – поскрипывание упряжных ремней, перестук копыт, негромкий скрежет стальных ободьев. Нас окружал и иной букет ароматов – смесь теплого запаха лошадей, смазки, седельного мыла, древесного лака и духа полей, – не задерживаемый привычными стеклами. Наконец, скорость, точнее, отсутствие скорости, позволяющее вглядеться. В автомобиле все проносится мимо, мелькает, сливается в сплошную смазанную полосу. В автомобиле вы изолированы от пейзажа. В карете вы часть окружающей природы.
– Trottez![43] Пошевеливайся! – Морис огрел лошадь кнутом по крупу, переключив скорость на вторую. – Ленивая она. И обжора. На обратном пути ее погонять не придется, потому что домой, к еде.
По обе стороны от нас раскинулись алые поля цветущего мака. Над ними кружил ястреб, пикировал, взмывал, парил на раскинутых крыльях. Солнце вдруг прикрыло случайное облако, и я заметил почти черные лучи, пронизывающие облачный туман.
Мы свернули с проселка и направились по лесной дорожке, виляющей между деревьями. Копыта более не стучали, погружаясь в густую траву. Я спросил Мориса, как он находит места для пикников, и он сказал, что в каждый свой выходной, еженедельно, отправляется в лес верхом. Иногда за несколько часов блужданий никого не встречает.
– Всего двадцать минут от Апта, но никто сюда не выбирается. Я да кролики.
Лес сгущался, дорожка сузилась в тропу, по стенкам кареты шуршали ветки. Мы миновали несколько валунов, туннель из переплетенных над головами ветвей и уткнулись в накрытый стол.
– Voilà! – провозгласил Морис. – Ресторан открыт!
На траве просеки, в тени раскидистого дуба, возвышался стол, накрытый на десять персон. Его украшала белоснежная скатерть с ведерками льда, с накрахмаленными салфетками, со свежими цветами в вазах, с настоящими приборами и настоящими стульями. Фон для стола создавал живописный borie[44], в далеком прошлом дом пастуха, ныне превращенный в буфетную. Оттуда доносились чпоканье вытягиваемых пробок и перезвон бокалов. Все мое отвращение к пикникам мгновенно улетучилось. Ничто здесь не предвещало отсыревшей задницы и сэндвичей с муравьями.
Морис отгородил часть просеки для распряженных лошадей, и они принялись валяться и кататься по траве, почувствовав облегчение, как пожилые дамы, освободившиеся от корсетов. В окнах дилижанса опустили шторки, младшая гостья заснула на его подушках, а остальные освежились охлажденным персиковым шампанским в крохотном открытом дворике borie.
Ничто так не содействует созданию приятной атмосферы, как отрадное приключение, комфортное нарушение привычного ритма бытия. Морису досталась благодатная публика, которую он, несомненно, заслужил. Он позаботился обо всем, ни в чем не ощущалось недостатка, ни во льде, ни даже в зубочистках. И уж конечно, голод нам не угрожал. Морис пригласил нас занять места за столом и представил выбор первых блюд: дыня, яйца перепелки, тающая во рту brandade[45], паштет из дичи, фаршированные томаты, маринованные грибочки и так далее, далее, далее, от одного конца стола к другому. Стол как будто спрыгнул с разворота подарочной кулинарной книги из тех, что никогда не увидишь на кухне.
За вводным словом Мориса последовала краткая пауза, во время которой мне вручили самую тяжелую и самую аккуратно выполненную поздравительную открытку – круглый металлический дорожный знак двух футов в диаметре с откровенным напоминанием о прожитых годах.
Bon anniversaire et bon appétit![46]
Мы героически бросились в атаку. За первым штурмом последовал легкий отдых, мы вставали, прогуливались, не выпуская из рук бокалов, возвращались к столу. Ланч затянулся на четыре часа. К моменту, когда подали кофе с именинным gateau[47], мы впали в блаженное отупение, тормозившее даже застольную беседу. Мир окрасился в розовые тона. Пятьдесят лет – удивительный возраст!
На обратном пути лошади не могли не ощутить увеличения веса пассажиров, однако рысили они более оживленно, чем утром, вскидывая головы и принюхиваясь к воздуху. Воздух же проявлял повышенную активность, ветер то и дело порывался скинуть с голов соломенные шляпы. Издали донесся какой-то приглушенный недовольный рокот. Еще несколько минут – и небо почернело.
Лишь только мы успели вывернуть на дорогу, как с неба просыпался крупный ледяной горох, весьма неприятно долбивший по нашим макушкам и плечам, тарахтевший по твердым поверхностям колесниц и шлепавший по мокрым спинам лошадей, подбадривая их лучше всякого кнута. Поля шляпы Мориса обвисли, прилипли к ушам, с красного жилета дождь стекал на белые штаны. Он смеялся и кричал, соревнуясь с какофонией природы:
– Oh là là, le pique-nique Anglais![48]
Мы с женой с грехом пополам прикрылись дорожным одеялом и обернулись посмотреть, как дела в дилижансе. Крыша его, очевидно, оказалась не в силах противостоять стихии, ибо из окон то и дело высовывались руки, выливая воду из шляп.
В Бюу мы ворвались галопом, Морису пришлось сдерживать лошадь, стремившуюся поскорее попасть домой, в теплую конюшню. К чертям этих двуногих и их дурацкие затеи с пикниками!
Промокшие, но веселые жертвы непогоды ввалились в ресторан, принялись согреваться чаем, кофе, более терпкими и максимально крепкими напитками. Вместо элегантных участников пикника за столиками стучали зубами фигуры в промокших одеяниях, с прилипшими к черепам волосами. Непрозрачные в сухом состоянии белые штаны теперь поздравляли присутствующих надписью «Веселого Рождества!», художественно выполненной красными буквами на заднице просвечивающих сквозь мокрую ткань трусов. Соломенные шляпы казались кучами слипшихся кукурузных хлопьев. Под каждым на полу образовалась персональная лужа.
Сухая мадам и сухой Марсель, официант, ехавший в кабине фургона, обеспечили пострадавших сухой одеждой и marc, и ресторанный зал превратился в раздевалку. Беннет под своей бейсболкой гадал, не следует ли ему проделать обратный путь в плавках. Его боевой экипаж, омытый ливнем, сверкал оставшимися на сиденьях лужами. Во всяком случае, гроза миновала, констатировал Беннет, щурясь в окно.
В Бюу гроза миновала, а в Менербе ее лишь слышали издали. Домой мы возвращались по той же сухой пыльной дороге среди бурой пожухлой травы. Стоя перед домом посреди раскаленного двора, мы понаблюдали за солнцем, повисшим на западе над двойной верхушкой горы и нырнувшим в скопившиеся там облака.
– Ну как тебе пикник? – спросила меня жена.
Что за вопрос! Конечно же, мне понравился этот пикник. И вообще мне нравятся пикники. Я без ума от пикников!
Поющие жабы святого Панталеона
Одно из самых странных и примечательных событий, организованных в память повальной декапитации французской аристократии двести лет назад, осталось незамеченным, не освещенным средствами массовой информации. Даже местный рупор времени, иной раз раздувающий на целую полосу такие малозначащие инциденты, как угон автофургона с рынка Кустеле или междеревенские соревнования в boules[49], даже, повторяю, акулы печати из «Le Provençal» не заметили этого исключительного в мировом масштабе события.
Впервые я услыхал об этом в конце зимы. Двое в кафе напротив boulangerie[50] в Люмьере обсуждали вопрос, показавшийся мне весьма странным: могут ли жабы петь.
Более крупный из двоих, судя по жестким мозолистым ладоням и запыленному комбинезону – каменщик, в это не верил.
– Если жабы поют, то я – президент Франции. – Он приложился к своему красненькому. – Эй, мадам! – заорал каменщик даме за стойкой. – Как ваше мнение?
Мадам подняла взор от подметаемого ею пола, оперлась обеими руками о древко швабры и обдумала вопрос.
– Что-то не похож ты на президента. А насчет жаб… – Она пожала плечами. – Я в жабах не разбираюсь. Все может быть. Жизнь – штука странная. Вот я однажды сиамскую кошку видела, так та сама пользовалась туалетом. У меня и фото есть. Цветное.
Второй собеседник, тот, что поменьше, удовлетворенно откинулся на спинку стула, считая вопрос решенным.
– Вот видишь? Все может быть. Мне шурин говорил, что есть в Сен-Панталеоне мужик с жабами, с кучей жаб, так он их тренирует к Bicentenaire[51].
– Иди ты! – подивился крупный. – И чем они нас порадуют? Флажками будут махать? Плясать под музыку?
– Петь. Петь они будут. – Меньший допил вино и отодвинулся от стола. – Говорят, что к Четырнадцатому июля они смогут «Марсельезу» изобразить.
Так и не придя к согласию, они удалились, а я попытался представить себе, как можно добиться от существ с весьма ограниченными вокальными возможностями воспроизведения звуков, волнующих сердце каждого француза, затрагивающих его патриотическую гордость при мысли об отрубленных головах, сыплющихся в плетеные корзины. Возможно ли это? Я слышал до сих пор лишь неорганизованное кваканье неученых лягушек вблизи нашего дома. Более крупные и, возможно, более одаренные жабы смогли бы, вероятно, осилить и значительный диапазон, и большую длительность нот. Но каким образом их обучать, кто возьмется за это? Очень, очень интересно.
Прежде чем искать человека в Сен-Панталеоне, я попытался заручиться авторитетным мнением. Мой сосед Массо должен знать о жабах. Он часто говорит, что в природе для него нет тайн. Природа, погода, живые существа, летающие, бегающие, ползающие в Провансе… Если в политике и ценах на недвижимость для него еще не все ясно, то в вопросах природы он дока.
Я дошел до глинистой ложбины на краю леса, в крутой склон которой врос домишко Массо. Три собаки дружно бросились мне навстречу, свирепо гавкая, пытаясь сорваться с цепей. Не подходя слишком близко, я свистнул. В доме тут же что-то упало, послышалось проклятие – putain! – и в дверях появился Массо с перемазанными оранжевой краской руками.
Он подошел к собакам, распихал их по конурам и, сунув мне для пожатия локоть, сообщил, что пытается сделать свою собственность еще более привлекательной к весне, когда возобновит попытки ее продать. Как с моей точки зрения, оранжевый – не слишком броско?
Подивившись его художественному вкусу, я перешел к жабам. Он схватился за усы, окрасив и их в оранжевый цвет, вспомнил о краске, отдернул руку.
– Merde! – Массо протер усы тряпкой, размазав краску и модифицировав их кричащую расцветку, в которой преобладал кирпичный цвет, результат воздействия вина и ветра.
Пригорюнившись, Массо покачал головой.
– Нет, жаб я не ел. Лягушек ел. Но жаб не доводилось. Конечно, английский рецепт, так?
Решив не описывать ему английский деликатес «жаба в норе»[52], я уточнил:
– Не о еде речь. Меня интересует, могут ли жабы петь.
Массо уставился на меня, подозревая подвох, и обнажил свои ужасные зубы.
– Собаки поют. Врежь псу сапогом по яйцам, еще как споет. – Он задрал голову к небу и изобразил, как запоет пес, которому врезали сапогом по… м-да. – Жабы… Да отчего б и жабам не спеть? Кто знает… Вопрос дрессировки. Мой дядя в Форкалькье козу плясать научил. Как только аккордеон услышит, сразу в пляс. Очень неплохо изображала, только, скажу я вам, все ж не так, как одна свинья, которую цыгане научили. Вот та была танцором – высший класс! Très délicat[53], несмотря на габариты.
Я рассказал Массо о подслушанной в кафе беседе. Не мог ли он подсказать, как найти того человека?
– Non. Il n’est pas du coin[54].
Сен-Панталеон, хотя и всего в нескольких километрах, находится на другой стороне шоссе N100, посему – чужая земля, заграница.
Массо начал увлекательную историю о дрессированной ящерице, затем вспомнил о своем прерванном занятии, сунул мне на прощанье локоть и вернулся в свои оранжевые пенаты. По пути домой я решил, что не след беспокоить соседей вопросами о том, что происходит в дальнем зарубежье, лучше пересечь дорогу да разузнать самому.
Сен-Панталеон невелик даже по деревенским стандартам. Не более сотни жителей; конечно же, auberge[55]; конечно же, крохотная церквушка XII века с врезанным в скалы кладбищем. Могильные ниши давным-давно пусты, но сохранили форму. Некоторые детского размера, вплоть до младенческого. День выдался мрачный, мистраль тарахтел ветками деревьев, голыми, как обглоданные кости.
Отвернувшись от ветра, какая-то старуха сметала с порога пыль да пустые пачки «Голуаз», поднимая мусор на ветер, переносивший старухины дары к соседскому порогу. Я спросил бабулю, не подскажет ли она мне, как найти дом человека, который учит жаб петь. Она вскинула на меня испуганный взгляд, скакнула за порог и захлопнула за собой дверь. Отходя от ее дома, я заметил шевеление занавески в окошке рядом с дверью. Вот и готов у нее для вечерних посиделок с соседками рассказ о сбежавшем из психушки иностранце, слоняющемся по деревне.
Перед поворотом к ателье художественной ковки «Ferronnerie d’Art» месье Ода над неподвижным мотоциклом согнулся мужчина, ковыряя в своем железном коне отверткой. Я спросил и его. Этот не удивился.
– Beh oui. Месье Сальк. Слыхал я, что он с жабами занимается, хоть с ним и не встречался. Он за деревней живет.
Последовав указаниям этого человека, я добрался до небольшой каменной постройки в достаточном удалении от дороги. Гравий во дворе как будто только что пересеян, почтовый ящик недавно выкрашен, на нем визитка, защищенная пластиком: HONORÉ SALQUES, ÉTUDES DIVERSES[56]. Исследователь-универсал. Что угодно можно предположить. Интересно, чем еще он мог заниматься, кроме управления хором лягушек?
Дверь дома открылась, едва я ступил во двор. Месье Сальк следил за моим приближением с каким-то нетерпением, глаза сверкали за стеклами очков в золоченой оправе. Очень аккуратный господин, филигранно прямой пробор, тщательно повязан галстук, острые складки брюк, начищенные до блеска небольшие черные туфли. Из открытой двери доносились звуки флейты.
– Наконец-то. Двадцатый век, и три дня без телефона, позор! А где ваши инструменты?
Я объяснил, что я не из бюро ремонта телефонов, а интересуюсь его работой с жабами. Он приосанился, тонкой белой рукой разгладил галстук, не нуждающийся в этом.
– Насколько я могу судить, вы англичанин. Приятно, что слух о моем маленьком достижении дошел до Англии.
Не хотелось сообщать ему, что его достижения подвергаются сомнению уже через дорогу, в Люмьере. Пользуясь его добродушным настроем, я спросил, нельзя ли поглядеть на его хор. Он слегка усмехнулся и просветил меня насчет моего ляпсуса.
– Вот и видно, что вы в жабах не разбираетесь. До весны от них не стоит ждать активности. Однако показать, где они зимуют, могу. Подождите немного.
Месье Сальк скрылся в доме и появился снова в теплой кофте. В руке он держал фонарик и древнего фасона ключ с аккуратной пластиковой биркой. На бирке каллиграфически выведено слово STUDIO. Месье Сальк провел меня через сад к сооружению в форме улья, сложенному из плоских камней, – тысячу лет назад типичная для Воклюза постройка.
Сальк отпер дверь и посветил внутрь. Вдоль стен тянулись песчаные насыпи с уклоном к центру, где находился надувной бассейн. Над бассейном висел микрофон, но артистов я не увидел.
– Они спят в песке, – пояснил месье Сальк, показывая лучом фонаря на насыпи. – Здесь, – он указал влево, – вид Bufo viridis. Их голос напоминает пение канарейки. – Он вытянул губы и издал иллюстрирующую трель. – А вон там, – луч метнулся к противоположному песчаному валу, – зимуют Bufo calamita. Их «звуковой мешок» способен растягиваться до удивительных размеров, звук получается très, très fort[57]. – Месье Сальк склонил голову, упер подбородок в грудь и очень похоже квакнул. – Вы, конечно, заметили контраст между этими двумя звуками.
Затем он объяснил мне, как из такого странного материала получается музыка. Весной, когда все помыслы этих столь разных особей направлены лишь на спаривание, обитатели песчаных куч пробуждаются от спячки и направляются в бассейн, распевая песни любви. Генетическая скромность позволяет им сочетаться лишь по ночам, но – pas de problème[58] – каждый звук улавливается микрофоном и записывается магнитофоном. Месье Сальк, не выходя из студии, редактирует, усиливает, микширует, монтирует, синтезирует и при помощи электроники получается, к примеру, «Марсельеза».
И это лишь начало! Скоро нагрянет 1992 год, и месье Сальк встретит его во всеоружии. Он готовит совершенно оригинальный опус, гимн стран Общего рынка. Здорово, не правда ли?
Я, однако, не разделял энтузиазма месье Салька. Оригинально, спору нет, но все же фантастика живого жабьего хора отсутствует. Что же касается гимна Общего рынка, тут как раз сплошная фантастика. Если брюссельские бюрократы валандаются годами, не приходя к согласию по таким простым вопросам, как цвет паспорта или бактериальный баланс йогуртов, как они достигнут единства в таком вопросе, как гимн, да еще в жабьем исполнении? Что скажет миссис Тэтчер?
Впрочем, что скажет госпожа Тэтчер, как раз не секрет.
«Жабы должны быть британскими!» – вот чего она потребует. Однако мне не хотелось замешивать в искусство политику, поэтому я задал очевидный вопрос:
– Почему жабы?
Месье Сальк глянул на меня так, будто хотел спросить, дурак я или только прикидываюсь.
– Потому что этого никто еще не делал.
Конечно же!
Весной и в начале лета мысли мои то и дело возвращались к месье Сальку и его питомцам, но я решил дождаться июля, когда concerto Bufo уже наверняка будет записан. Если повезет, смогу услышать и гимн Общего рынка.
Но, прибыв к месье Сальку с повторным визитом, я его не застал. Дверь открыла женщина, чье лицо весьма походило на поверхность скорлупы грецкого ореха, с пылесосной насадкой в руке.
– Дома ли месье?
Женщина отвернулась и выключила пылесос.
– Нет. В Париж отъехал. – Она помолчала и добавила: – По случаю Bicentenaire.
Музыку он, конечно, забрал с собой?
Этого она не знала. Она всего лишь экономка.
Не хотелось, чтобы поездка прошла совсем уж впустую, и я спросил, нельзя ли хоть жаб увидеть.
Нет. Они отдыхают. Месье Сальк велел их не беспокоить.
– Благодарю вас, мадам.
– Не за что, месье.
Перед Четырнадцатым июля газеты улавливали и излучали новости, повествовали о приготовлениях, о платформах, декорациях, визитах глав государств, о гардеробе Катрин Денев… Но нигде я не нашел ни единого упоминания, даже в разделе культуры, о поющих жабах. День взятия Бастилии прошел без единого квака. Да, месье Сальку следовало бы добиться живого исполнения.
«Шатонеф-дю-Пап» не сплевывать!
Август в Провансе. В это время лучше вести себя спокойненько, не высовываться из тени, двигаться размеренно и никуда по возможности не выезжать. Ящерки это прекрасно понимают, и мне следовало бы брать с них пример.
В августе, в конце восьмидесятых, в полдесятого утра я влез в машину и сразу же почувствовал себя как куриная грудка на сковородке. Я опустил глаза к карте, чтобы определиться с маршрутом, как можно более свободным от туристов и от очумелых на жаре дальнобойщиков. Капля пота с носа упала как раз в точку назначения, Шатонеф-дю-Пап, малый городок знаменитого вина.
За несколько месяцев до этого, зимой, я встретил на вечеринке по случаю помолвки двоих наших знакомых некоего господина по имени Мишель. Первые бутылки, первые тосты… Я сразу заметил, что если остальные вино просто пили, то Мишель следовал личному ритуалу, весьма продуманному и отработанному. Прежде всего он заглядывал в бокал, затем обнимал его ладонью и взбалтывал круговыми движениями. Подняв бокал до уровня глаз, он всматривался в следы турбулентного движения в толще и по краям. Обоняние его участвовало в исследовании наравне со зрением. Вдох, выдох… Еще одно, последнее вращение… и первые капли осторожно принимаются ртом.
Очевидно, что испытания вина на этом не заканчивались, что тестирование продолжается. Мишель жует, вытягивает губы, добавляет в рот немного воздуху, полощет рот, добавляет вина… Поднимает взгляд к потолку, втягивает щеки и глотает уже после того, как вино многократно обежало его ротовую полость, как стайер беговую дорожку стадиона.
Он заметил мой внимательный взгляд, ухмыльнулся и изрек:
– Неплохо, неплохо… – Второй глоток он принял уже не так обстоятельно, приветствуя бокал поднятием бровей. – Неплохой год – восемьдесят пятый.
Как выяснилось, Мишель по профессии негоциант, профессиональный дегустатор, покупатель вина и продавец нектара. Его специализация – вина Юга, от «Тавель-Розе» (говорят, любимого вина Людовика XIV) через золотистые белые, тихие и спокойные, и до тяжелых, бьющих по мозгам «Жигонда». Но из всех вин чудом своим, сокровищем своей коллекции, за бокалом которого лучше всего умереть, он считает «Шатонеф-дю-Пап».
По его описанию можно было подумать, что он обсуждает достоинства женщины. Руки его ласкали воздух, в нежном поцелуе касался он губами кончиков пальцев. Он превозносил полнотелость, букет и мощь. Мощь вполне реальную, ибо крепость «Шатонеф» может достигать пятнадцати градусов. А в наши дни, когда Бордо все слабеет и слабеет, а Бургундия по ценам доступна только японцам, Шатонеф – золотое дно. Он предложил мне навестить его погреба и осмотреться на месте. И продегустировать.
В Провансе время между моментом договоренности о свидании и исполнением этой договоренности часто измеряется месяцами, а то и годами, поэтому я не ожидал немедленного приглашения. Зима сменилась весной, весна перешла в лето, лето достигло апогея в августе, наиболее смертельном месяце, когда с пятнадцатиградусным вином забавляться небезопасно. И тут позвонил Мишель.
– Завтра утром, в одиннадцать, – сказал он. – В погребах Шатонеф. За завтраком съешьте побольше хлеба.
Я поступил согласно его совету, в порядке личной инициативы добавив столовую ложку оливкового масла. Соответственно единодушному мнению местных знатоков, это наилучший способ покрыть желудок защитной оболочкой, предохраняющей от ударного воздействия мощи молодых вин. В любом случае я собирался, колеся по извилистым сельским дорожкам, поступать как дегустаторы-знатоки, то есть не глотать, а полоскать рот и выплевывать.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Множество благодарностей (фр.).
2
Калеки (фр.).
3
Здесь: кишечный транзит (фр.).
4
Печеночные колики (фр.).
5
Здесь: честное вино (фр.).
6
Итак, месье… (фр.)
7
Как? (фр.)
8
А, мононуклеоз. Возможно, возможно (фр.).
9
Добрый вечер (фр.).
10