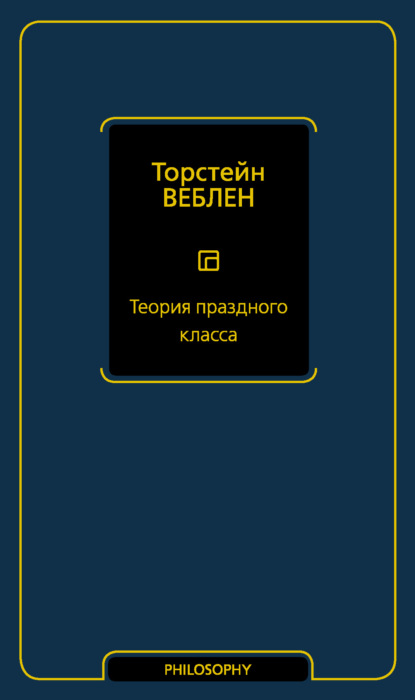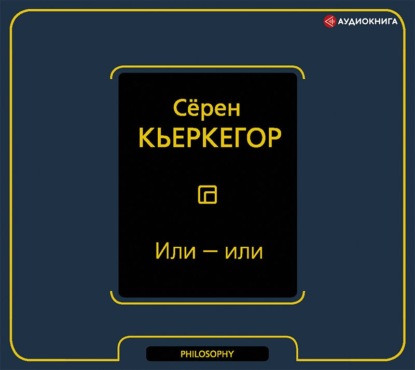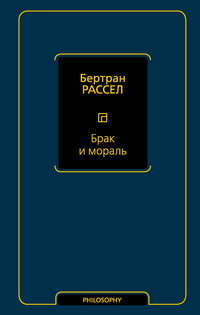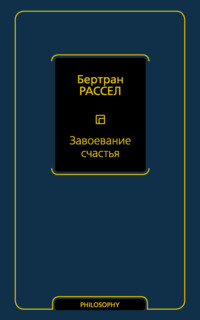Полная версия
Почему я не христианин (сборник)

Бертран Рассел
Почему я не христианин
Серия «Философия – Neoclassic»
Bertrand Russell
WHY I AM NOT A CHRISTIAN
Перевод с английского А.В. Семенова Оформление обложки В.А. Воронина
Печатается с разрешения издательства Routledge, a member of the Taylor & Francis Group, copyright of The Bertrand Russell Peace Foundation.
© Bertrand Russel, 1927
© The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., 1996
© Preface to the Routledge Classics edition, Simon Blackburn, 2004
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
Предисловие к изданию «Рутледж классикс»
В начале марта 1927 года лондонская «Таймс» извещала о тихих, спокойных днях. В центральных графствах охота не слишком задалась, но в Лондоне после анонимного телефонного звонка появилась надежда найти принадлежащее миссис Брюс Исмей украденное ожерелье стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов. За семьдесят три фунта и три шиллинга «Церковный клуб путешественников» доставит вас в Палестину, Египет, Афины и Константинополь. Было много объявлений для горничных и совсем немного говорилось об этих религиозных турах, поскольку названная будто бы скромная сумма составляла едва ли не годовой заработок обычной горничной. Многие письма в редакцию касались предлагаемой реформы молитвенника, а епископ Нориджа провел специальную конференцию, посвященную этой реформе («председательствовавший бригадный генерал Г. Р. Адэр заявил, что нужен не новый молитвенник, а справочник по дисциплине»). Религиозные мероприятия освещались очень широко[1].
Единственное мероприятие, которое не анонсировала «Таймс», – это воскресная лекция Южно-Лондонского отделения Национального светского общества: она должна была состояться 6 марта в здании муниципалитета Баттерси; впрочем, газета не сообщила о лекции и впоследствии. Лекция называлась «Почему я не христианин» и легла в основу самой знаменитой и самой смелой работы Бертрана Рассела о религии.
Было модно порицать эту лекцию Рассела и его последующие работы о религии как поверхностные и бездуховные, неадекватные глубине обсуждаемой темы. Высокомерно-снисходительное отношение к позиции Рассела можно, пожалуй, описать так: будь религия не более чем суеверием, взгляды Рассела считались бы уместными, но она отнюдь не суеверие, а значит, слушать Рассела ни к чему. Первая подобная атака произошла в августе того же года, причем ее предпринял заново обратившийся к религии Т. С. Элиот[2] в своем журнале «Мансли критерион»[3]. Поскольку Элиот предвосхитил большую часть последующей критики Рассела, предлагаю прислушаться к его аргументации.
В частности, Элиот цепляется за слова Рассела «думаю, что реальная причина, по которой люди принимают религию, не имеет ничего общего с доводами рассудка. Они принимают религию из эмоциональных побуждений». «Он не высказался открыто, – говорит Элиот, – хотя я уверен, что сам это признает, но его собственная религия также полностью исходит из эмоциональных побуждений». Элиот с презрением цитирует эмоциональные фразы, которыми Рассел завершает свою лекцию, приводя следующее высказывание: «Мы хотим твердо стоять на ногах и прямо и открыто смотреть на мир… Завоевывать мир с помощью интеллекта, а не рабски покоряться тому ужасу, который от него исходит…» Он язвительно замечает, что слова Рассела «тронут сердца тех, кто употребляет такие же высокопарные обороты, что и он сам».
Короткие возражения Элиота можно разделить на три группы. Он соглашается с Расселом в том, что страх, который Рассел считает движущей силой религии, в целом порочен как таковой. Однако, по его мнению, опытный теолог способен отличить добродетельный страх от порочного, и он настаивает на том, что должный страх перед Богом принципиально отличается от страха перед грабителями, опасения банкротства или боязни змей. Эту мысль он не развивает, но можно предположить, что, по Элиоту, страх перед Господом есть своего рода лекарство от экзистенциального страха, страха перед неприкаянностью, перед утратой опоры в аморальном и бессмысленном мире.
Далее Элиот указывает, что все доводы Рассела уже давно известны. В определенном смысле это так, если мы читали Юма, Канта или Фейербаха, хотя немногие смогли бы обоснованно заявить, будто помнят, в отличие от Элиота, что проблема регресса причин, о которой, по словам Рассела, он узнал у Милля, «стала мне известна в шестилетнем возрасте от няни, благочестивой ирландки-католички». Но если Элиот прав в том, что в философском отношении эссе Рассела не является оригинальным, он все же ошибается, предполагая, будто знакомые доводы почему-то становятся слабее, словно тем самым они утрачивают право управлять нашими убеждениями.
Наконец, что гораздо важнее, Элиот заявляет, что в подобных вопросах Рассел должен согласиться: значимо не то, что ты говоришь, а то, как ты себя ведешь, и потому «атеизм зачастую является лишь разновидностью христианства». Есть много разновидностей христианства, говорит Элиот, например, «атеизм Высокой церкви Мэтью Арнолда» или «часовенный атеизм м-ра Д. Г. Лоуренса»[4]. В заключение Элиот пишет: «Радикализм господина Рассела в политике есть всего-навсего разновидность умеренного либерализма, а его отрицание христианства есть всего-навсего разновидность доктрины Низкой церкви[5]. Вот почему его памфлет можно назвать любопытной, но жалкой попыткой опорочить веру». Полемические высказывания Элиота могут показаться совершенно несущественными для тех многочисленных гуманитариев, агностиков, либералов и атеистов, которые более семидесяти пяти лет вдохновлялись этой работой Рассела. Тем не менее, данные рассуждения заслуживают внимания, и не только потому, что они предвосхитили те испытания, которые выпали на долю этой работы Рассела, но и потому, что по целому ряду признаков они ближе современному миру, чем сам Рассел. Это не означает, что Элиот побеждает в каком-то интеллектуальном споре – вовсе нет. Его соображения прекрасно показывают ту культурную атмосферу, которая заставит «просвещенческий» рационализм Рассела вступить в жаркую схватку за право существования – и в умах некоторых людей бесславно ее проиграть.
Итак, рассмотрим популярное ключевое положение Элиота: если эмоции приводят людей к религиозным убеждениям, те же самые эмоции лежат в основе отказа от последних. На первый взгляд эта идея кажется весьма убедительной, словно Рассел подорвался на собственной мине. Однако при более тщательном рассмотрении эта идея выглядит уже не столь привлекательно. Мы все доверяем бесчисленным высказываниям типа «не существует никаких…»; мы верим, что не существует никаких зубных фей, что в реальности нет ни Санта-Клауса, ни Шерлока Холмса. Действительно, верить в подобное попросту нелепо, такая вера настолько противоречит основам наших представлений о мире, что ее нетрудно признать заблуждением. Поэтому в отсутствие подробностей, возможно, единственный способ «заглянуть внутрь» сознания заблуждающихся – это предположить, будто ими овладели некие могучие эмоциональные силы, бессознательные детерминанты веры, которые отражают лишь состояние ума заблуждающихся, но отнюдь не состояние мира вокруг. Отсюда вовсе не следует (и не является истиной), что обычное состояние человеческого ума, не верящего в то, о чем говорилось выше, требует аналогичного эмоционального объяснения. Напротив, оно полностью и вполне удовлетворительно объясняется нашей восприимчивостью к тому мироустройству, где нет упомянутых сущностей.
Хотя в известном смысле это верно, но данное рассуждение не приближает нас к сути вопроса. Ведь, достигнув согласия в отношении того, что является очевидной истиной, мы также приходим к согласию относительно тех, кого признаем жертвами чуждых сил – то есть тех, кто верит иначе. Когда христианство было распространено повсеместно, именно атеисты считались жертвами чуждых сил. Фраза «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога»[6] часто употребляется для того, чтобы показать, будто атеизм есть не столько результат интеллектуальных размышлений, сколько состояние разложения, вызванное желанием безнравственного атеиста расстаться со своей совестью[7]. Если же согласия нет, если налицо дискуссия между христианами и атеистами, то каждая из сторон будет отстаивать указанное правило в качестве объяснения слепоты оппонента. Потому постановка эмоциональных диагнозов никак не может способствовать завершению дискуссии, если только одна из сторон не располагает объяснением, которое с нейтральной точки зрения будет восприниматься как более точный диагноз.
Однако Элиот намекает на нечто гораздо более радикальное. Похоже, он считает, что быть христианином – это вообще не вопрос веры во что бы то ни было (иначе религия оказывается чистым суеверием). Он подразумевает, что речь идет исключительно об определенной эмоциональной позиции по отношению к миру – и, возможно, к некоторым текстам. Он упоминает о своем преподавателе из Гарварда, который, «будучи убежденным атеистом, в то же время являлся, в сущности, самым ортодоксальным христианином». Это звучит просто парадоксально – почему бы не подставить вместо слова «атеист» слово «буддист», «индуист», «шиит» или «суннит»? Должно быть, Элиот имел в виду некие общие эмоции, простейший признак человечности, присущий практически всем, какого бы вероисповедания они ни придерживались. Это все равно что сказать: все религии (и атеизм) проповедуют любовь, поэтому давайте их отождествим. Такой упрощенный экуменизм тоже является отличительной чертой современного мира. Вероятно, он годится для разрешения религиозных конфликтов, но, помимо всего прочего, не позволяет понять историю христианства, когда люди охотно жгли друг друга на кострах из-за споров, возможно ли пресуществление, сходство божественной и человеческой природы, искупление грехов деяниями или предопределение.
Расселу было достаточно просто установить, во что верят христиане. Как минимум они верят в Бога и бессмертие, а также верят, что Христос был лучшим и мудрейшим из людей. Это можно рассматривать как контрольный список с галочками напротив верных ответов. Там, где Рассел предпринимает усилия для характеристики христианина, Элиот сознательно этим пренебрегает. Позиция Элиота заключается в том, что имеют значение не слова, а поведение. С его точки зрения, любой может утверждать, что он верит в то-то и то-то или не верит. Но тут же возникает вопрос, а следуют ли эти люди собственным словам? Рассел, который в ту пору, несомненно, симпатизировал взгляду, что психическая жизнь человека полностью проявляется в его поведении, был не совсем в том положении, чтобы оспаривать эту позицию. Но здесь проявляется масштабная проблема интерпретации или герменевтики, поскольку обнаруживаются ли в вихре лингвистического и нелингвистического поведения человека некие фиксированные моменты, которые подскажут нам, возможно ли интерпретировать их как веру во что бы то ни было? Или, вопреки активному сопротивлению жертвы его нападок, Элиот выставляет Рассела сторонником Низкой церкви, дабы показать, что тот ошибается? Вновь звучит, если угодно, современная нота: четко определенное значение исчезает под шквалом конфликтующих интерпретаций.
Но в эмоциональную игру, как и в любую другую, играют двое. Если Рассел в свою очередь захочет выставить Элиота лицемерным атеистом, который почему-то находит удовольствие в цитировании «священных» слов или посещении «священных» зданий, как доказать, что он ошибается? Если правит бал неопределенность, мы можем обратить парадокс Элиота против него самого: подобно всем ортодоксальным христианам, он, в сущности, настоящий атеист.
Рассел различал в религии три элемента: церковь, символ веры – или свод доктрин, – и религиозное чувство. Хорошо известно, что он неустанно атаковал церковь как организацию и утверждал, будто религиозные доктрины неправдоподобны для любого рационально мыслящего человека, однако сам при этом не только признавал религиозные чувства, но и в некоторые периоды жизни опирался на них как на основу своего понимания мира и собственного места в нем. Уже в весьма преклонном возрасте он сетовал на разрыв между тем, что подсказывал ему интеллект, и тем, во что эмоционально хотелось верить:
«Я всегда страстно желал найти какое-то оправдание тем эмоциям, порожденным теми или иными явлениями, которые как будто находятся за пределами человеческой жизни и заслуживают чувства благоговения. Так что мои инстинкты соглашаются с гуманистами, но мои эмоции яростно протестуют. В этом смысле «утешение философией» вовсе не для меня»[8].
Рассел называл две причины, по которым он занялся философией: «Желание найти некое знание, которое может быть признано безусловно верным… и желание обрести некое удовлетворение для религиозных позывов»[9]. Дочь Рассела Кэтрин Тэйт писала, что отец «по темпераменту был глубоко религиозным человеком»[10]. В ранние годы жизни он писал своей первой жене Элис о восхищении Спинозой, который проповедовал «изобильный аскетизм, основанный на весьма неопределенном мистицизме»[11].
Признавая религиозные чувства и их чрезвычайную важность, но отрицая доктрину и осуждая организованную церковь, Рассел подставлял себя под удар с другой стороны. Почему религиозный язык не может являться наилучшим способом выражения религиозных чувств? Ведь именно для этого он и создан. Поэтому поэт и литературный критик, как Элиот, обязан, по сути, возражать против того разделения чувств и способов их выражения, которое предполагалось взглядами Рассела (пускай это означает, что Элиот непоследовательно отстаивает обозначенный выше «упрощенный экуменизм», поскольку атеисты, несомненно, выражают себя иначе, нежели христиане и все остальные).
Если чувство и способ его выражения едины, то религиозные чувства суть просто ощущения жизни, судьбы, памяти и потерь, выраженные в возвышенных религиозных сочинениях. А если поведение придает значение словам, долгая жизнь таких сочинений есть просто жизнь тех церквей, которые их распространяют, хранят и освежают их значение, облекая должной преемственностью с прошлым, должной торжественностью и ритуальностью. Если рассматривать религию как совокупную практику, аналитические построения Рассела не выдерживают критики. Они не отражают неотъемлемого единства чувства, слов и ритуала, составляющего религиозное отношение к миру. С этой точки зрения слова «я знаю, Искупитель мой жив»[12] не столько обладают истинным или ложным значением, сколько наделены именно тем значением, которое вкладывается в них при пении гимна – или при пении гимна в церкви на Рождество. Ни Рассел, ни его предшественники-атеисты не предвидели подобного поворота[13]. Впрочем, имейся даже точное представление о том, что делают «верующие» в Бога, Рассел все же смог бы выдвинуть оригинальные (и серьезные) нравственные доводы против них. Ритуалы и слова не являются самодостаточными проявлениями чувств, они также предвосхищают запреты и преследования.
Можно рассматривать спор Элиота с Расселом как отражение давнего противопоставления современности и эпохи Просвещения. Рассел полагается на разум, веру, истину, науку и анализ, считая чувства и эмоции не более чем побочными, пусть и неожиданно важными, спутниками. Он воспринимает религиозные верования как простую веру, о которой следует судить с точки зрения вероятности, науки, логики и истории; если исходить из этого, они оказываются неполноценными. Элиот же ставит их в один ряд с поэзией, чувствами, эмоциями, экспрессией и традицией, тогда как рационализм и наука, анализ и вероятность изгоняются куда-то за пределы внимания[14].
Битва за интерпретацию продолжается и в наше время, когда религиозные идеологии вновь сражаются за умы, даже на образованном Западе. Одно из замечательных достоинств лекции Рассела – однозначность выбора, благодаря которой он занимает четкую позицию на поле боя. Любой, кто занимает другую позицию, вынужден с ним сражаться, то есть приводить более серьезные аргументы, чем смог изобрести Элиот.
Саймон Блэкберн,
Кембриджский университет, 2003
Предисловие редактора иностранного издания
Бертран Рассел был плодовитым автором, и часть его лучших сочинений составляют небольшие памфлеты и статьи в различных периодических изданиях. Это особенно верно в отношении его работ о религии, многие из которых мало известны за пределами определенных рационалистических кругов. В данной книге собраны сочинения Рассела о религии, а также некоторые другие работы, наподобие статей «Свобода и колледжи» и «Наша сексуальная этика», которые до сих пор являются весьма актуальными.
Хотя Рассела больше всего ценят как человека, внесшего немалый вклад в такие совершенно абстрактные области знания, как логика и теория познания, можно смело предположить, что в равной степени его будут помнить как одного из величайших еретиков в сфере морали и религии. Он никогда не был сугубо «техническим» мыслителем. Его всегда глубоко заботили те фундаментальные вопросы, на которые дают ответ религии, – вопросы о месте человека во вселенной и природе добропорядочной жизни. В своем рассмотрении этих вопросов он проявлял те же проницательность, остроумие и красноречие, которые характерны для блестящей прозы других его работ. Благодаря этим качествам эссе, включенные в данную книгу, представляют собой, возможно, самое трогательное и самое изящное изложение позиции свободомыслящего человека со времен Юма и Вольтера.
Книга Бертрана Рассела о религии достойна публикации в любую эпоху. Сейчас, когда мы являемся свидетелями кампании за возрождение религии, которая ведется с активным использованием всех современных рекламных технологий, новое изложение аргументации неверующего представляется особенно желательным. Уже несколько лет из каждого угла и на всех уровнях – сверху донизу – нас бомбардируют теологической пропагандой. Журнал «Лайф» в редакционной статье уверяет, что «если не принимать во внимание догматически настроенных материалистов и фундаменталистов», война между теорией эволюции и христианской верой «окончилась много лет назад» и что «сама наука… разоблачает представление о том, что развитие вселенной, жизни или человека происходило по чистой случайности». Профессор Тойнби[15], один из наиболее заслуженных апологетов религии, говорит, что «на секулярной основе невозможно противостоять коммунистическому вызову». Норман Винсент Пил, монсеньор Шин[16] и другие светила религиозной психиатрии восхваляют достоинства веры в статьях, которые читают миллионы людей, в книгах-бестселлерах и еженедельных общенациональных радио- и телевизионных программах. Политики всех партий, многие из которых нисколько не отличались благочестием до того, как начали стремиться к занятию публичных должностей, прилагают немало усилий к тому, чтобы считаться усердными прихожанами, и всегда упоминают о Боге в своих высокоученых рассуждениях. Увы, за пределами аудиторий лучших колледжей негативная сторона этого вопроса практически никогда не обсуждается.
Такая книга, как эта, с ее бескомпромиссной приверженностью секуляристской точке зрения, сейчас еще более актуальна, поскольку наступление религии не ограничивается широкомасштабной пропагандой. В Соединенных Штатах Америки оно также принимает форму многочисленных попыток, зачастую успешных, подорвать закрепленный в конституции принцип отделения церкви от государства. Этих попыток слишком много, чтобы перечислять их здесь подробно, но, пожалуй, двух-трех примеров будет вполне достаточно, дабы проиллюстрировать эту тревожную тенденцию, которая, если ее не остановить, превратит тех, кто противостоит традиционной религиозности, в граждан второго сорта. Скажем, несколько месяцев назад подкомитет палаты представителей США включил в резолюцию Конгресса удивительное предложение о том, что «лояльность к Богу» является необходимым условием для государственной службы. «Служба любого лица в любом качестве в правительстве или под руководством правительства, – официально постановили законодатели, – должна характеризоваться преданностью Богу». Эта резолюция еще не стала законом, но вскоре может в нем закрепиться, если она не встретит решительного отпора. Другая резолюция, согласно которой фраза «На Бога уповаем» становится национальным девизом США, принята обеими палатами Конгресса и уже приобрела силу закона. Профессор Нью-Йоркского университета Джордж Экстелл, один из немногих откровенных критиков этих и аналогичных действий, в своих показаниях перед сенатским комитетом с полным основанием отозвался о них как о «малых, но значительных отступлениях от принципа отделения церкви от государства».
Попытки внедрить религию там, где конституция прямо это запрещает, ни в коем случае не ограничиваются одним федеральным законодательством. Рассмотрим лишь один вопиющий пример: в Нью-Йорке совет управляющих Совета по образованию в 1955 году подготовил «Руководящий документ для директоров и учителей», где прямо указывалось, что «государственные школы поощряют веру в Бога, признавая тот простой факт, что наш народ религиозен»; соответственно, государственные школы «определяют Бога как основной источник законов природы и нравственных законов». Если бы этот документ был принят, едва ли хоть одна дисциплина школьного курса в Нью-Йорке осталась бы свободной от теологического влияния. Даже такие чисто светские предметы, как естественные науки и математика, надлежало бы преподавать с религиозной точки зрения. «Ученые и математики, – указывалось в документе, – считают вселенную рациональным, упорядоченным, предсказуемым местом. Их рассуждения о неоглядности и великолепии небес, чудесах человеческого тела и духа, красоте природы, загадке фотосинтеза, математической структуры вселенной или концепции бесконечности неизбежно вызывают благоговейное восхищение трудами Господа. Можно лишь повторить: “ Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов”[17]». Не оставили в покое и столь невинный предмет, как уроки труда. «На уроках труда, – отмечают философы из Совета управляющих, – наблюдения за такими чудесами, как строение металлов, свойства зерна и красота лесов, электропроводимость и характерные свойства используемых материалов, неизбежно приводят к размышлениям о царящих в мире природы упорядоченности и планировании и об изумительной работе Высшей Силы». Этот документ встретил такой взрыв негодования со стороны граждан и ряда более либеральных религиозных групп, что его принятие Советом по образованию стало невозможным. Впоследствии приняли модифицированную версию, из которой вычеркнули большинство наиболее спорных положений. Тем не менее, даже пересмотренное издание содержит достаточно теологических высказываний, чтобы заставить антиклерикала поморщиться, и остается надеяться, что конституционность такой публикации будет оспорена в суде.
В большинстве случаев попытки утверждения церковных интересов встречают удивительно слабое сопротивление. Одна из причин этого заключается в широко распространенном убеждении, будто сегодня религия стала умеренной и терпимой, а преследования отошли в прошлое. Это – опасная иллюзия. Да, многие религиозные лидеры, несомненно, являются подлинными приверженцами свободы и терпимости и, соответственно, твердо верят в необходимость отделения церкви от государства, к несчастью, многие другие охотно стали бы прибегать к преследованиям, если бы могли, и прибегают к ним, если могут.
В Великобритании ситуация несколько отличается. Здесь есть устоявшиеся церкви, а религиозное образование официально проводится во всех государственных школах. Тем не менее, страна характеризуется гораздо большей терпимостью, а общественные деятели меньше опасаются открыто объявлять себя неверующими. Однако и в Великобритании свирепствует вульгарная прорелигиозная пропаганда, а наиболее агрессивные религиозные группы делают все возможное, чтобы не позволять свободомыслящим излагать свои взгляды. Например, в недавнем «Отчете Бевериджа»[18] Би-би-си рекомендовалось дать слово представителям рационалистического мнения. Би-би-си официально приняла эту рекомендацию, но почти ничего не сделала для ее выполнения. Передача Маргарет Найт «Нравственность без религии» является одной из крайне редких попыток представить точку зрения неверующих по той или иной важной теме. Передача миссис Найт вызвала неистовое возмущение разнообразных лицемеров и фанатиков, которые, кажется, запугали Би-би-си и заставили компанию вернуться к прежнему раболепию в отношении религии.
Чтобы рассеять любые сомнения по этому вопросу, в качестве приложения к данной книге публикуется весьма полный отчет о том, как Бертрану Расселу не разрешили занять должность преподавателя философии в Городском колледже Нью-Йорка. Имеющиеся факты заслуживают самого широкого распространения, хотя бы ради того, чтобы показать, на какие невероятные фальсификации и на какое злоупотребление властью готовы пойти фанатики, чтобы одолеть своего врага. Люди, которым удалось аннулировать назначение Рассела, были теми же самыми людьми, которые сейчас готовы ликвидировать светский характер Соединенных Штатов Америки как государства. Они и их британские соратники ныне в целом более могущественны, чем в 1940-х годах.