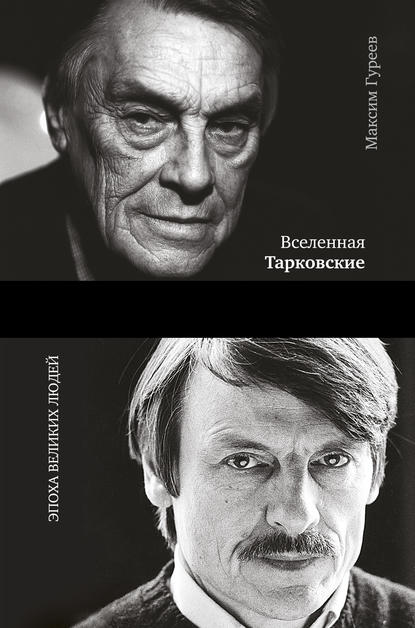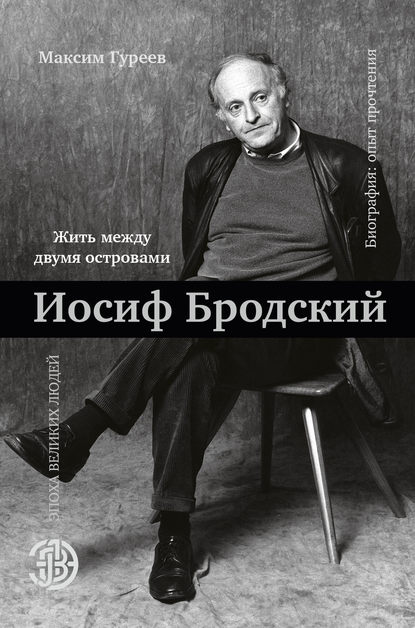Полная версия
Анна Ахматова. Когда мы вздумали родиться

Анатолий Найман
Когда мы вздумали родиться
Предисловие
Эта книга о попытке случайно соединившихся людей, для которых культура была в той или другой степени необходимой координатой жизни, выразить ей, культуре, за это благодарность. Или по-другому – о попытке читателей стихов передать свою признательность поэту за испытанные от чтения чувства, за пережитый душою подъем. О том, насколько удачно, полно или, напротив, нескладно, схематично это осуществилось. У меня был друг, прекрасный скрипач, он иногда звонил после концерта, я спрашивал: ну, как играли? Он отвечал: как умели, так играли. Вот об этом эта книга.
Ее название – неполная строчка из Первой элегии, открывающей цикл ахматовских «Северных элегий». В цикле шесть (седьмое стоит особняком) стихотворений. Их можно назвать историческими фрагментами большой истории – с той оговоркой, что в них биография человека, конкретно лирической героини, почти неотличимой от автора, не жертва катаклизмов социума и природы, но напротив, олицетворяет противостояние, пусть на вид и смиренное, их силам. Пружиной событий и ведущей темой стихов выглядит она, биография, большая история превращается ею в сопутствующий антураж. «Северными» они названы не только традиционно, как, скажем, у поэтов, по-пушкински сознававших Россию северной страной, но и относительно знаменитых историй «полуденных»: эллинских и римских, античных. Элегическая повествовательная манера Ахматовой стилистически их напоминает. К ним примыкает несколько стихотворений, в частности написанный ближе к концу жизни сонет, имеющий прямое отношение к предмету этой книги.
Запад клеветал и сам же верил,И роскошно предавал Восток,Юг мне воздух очень скупо мерял,Усмехаясь из-за бойких строк.Но стоял как на коленях клевер,Влажный ветер пел в жемчужный рог,Так мой старый друг, мой верный СеверУтешал меня, как только мог.В душной изнывала я истоме,Задыхалась в смраде и крови,Не могла я больше в этом доме…Вот когда железная СуомиМолвила: «Ты все узнаешь, кромеРадости. А ничего, живи!»Суоми – финское название Финляндии, включая ту ее часть, которая после войны 1939 года отошла к СССР. Что поселок Комарово (прежнее название Келомякки), куда Ахматова с конца 1950-х выезжала на лето, расположен на этой земле, она никогда не забывала.
Подзаголовок Первой Северной элегии – «Предыстория»: картина Петербурга и, шире, России 1880-х годов, сквозь которые проглядывает десятилетие 1870-х. Заключительное четверостишие стихотворения – «Так вот когда мы вздумали родиться / И, безошибочно отмерив время, / Чтоб ничего не пропустить из зрелищ / Невиданных, простились с небытьем». Ахматова родилась в 1889-м, упомянутые ею зрелища – Русско-японской войны, Первой мировой, Русской революции, войны Гражданской, десятилетий большевистского террора, ГУЛага, Второй мировой. Поистине невиданные. В этой исторической перспективе она и опознавала, осознавала себя. Участницей; жертвой; уцелевшей чудом избранницей; победительницей. Той, на которую «Запад клеветал», не вымышленный, газетно-пропагандистский, а эмигрантский, толком не знавший, что с ней происходит, которому она не могла ответить. Частным лицом. Исторической фигурой.
Но независимо от масштаба судьбы и калибра личности, все родившиеся на свет причастны быту и по-домашнему отмечаются в нем. Как, к примеру, растущие дети карандашной чертой на дверной притолоке. Или справляя раз в год именины, отмечая день рождения. При жизни Ахматовой я был гостем, наверно, на четырех днях ее рождения. Есть показания, что на пяти, но убедительных доказательств присутствия на пятом привести не могу. Смутно мерещится, что в первый раз позвонил с поздравлением в самый день и она пригласила в ответ, но после этого приглашала загодя.
Об этом, как и многом другом, касающемся и характеризующем ее, написано в моей книге «Рассказы о Анне Ахматовой». Она была издана в конце 1980-х, с тех пор много раз переиздавалась. Когда я сажусь за какую-нибудь новую статью или эссе об Ахматовой, бывает, что та или другая фраза из «Рассказов» представляется мне достаточно толковой, чтобы перенести ее в новый текст как есть, не смущаясь тем, что она уже напечатана. Несколько таких коротеньких обрывков, вспомненных по теме и показавшихся мне удачными, я включил и в эту книгу.
День рождения растягивался на 23 и 24 июня. Она родилась 11-го по старому стилю, но в веке прошедшем, девятнадцатом, так что можно было прибавлять 12 дней, однако поскольку уже праздновала этот день и в новом, то допускалось автоматически и 13. К тому же числа старого стиля имели склонность устраивать и охотно устраивали путаницу с числами нового. 23-е по старому, праздник Владимирской иконы Божией Матери, установленный в память избавления Руси от нашествия ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, также отбрасывал свет на ее день рождения. Она находила повод в какую-то минуту застолья мимоходом напомнить об этом.
Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим ее образу и имени добавочную красочность, не лишнюю, но ничего не менявшую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу. Она давала понять, растворяя, правда, серьезность своих заявлений и намеков благодушно-иронической литературностью, что ею как бы вследствие самой даты рождения была усвоена магия, приписываемая этой ночи. То есть вся совокупность языческих верований и обрядов, поиски папоротника, цветущего огненным цветом, и с его помощью – кладов, прыганье через костры, скатывание с горы зажженного колеса, купание и т. д., – так же как и весь связанный с Купалой, скрывающимся в воде, в огне и в травах, подающим силу воды и теплоту солнца растениям, круг мифов, завершающийся шекспировским «Сном в летнюю ночь».
В стихах ее этот день упоминается не как праздник чудотворной иконы, или мученицы Агриппины, а как день Аграфены-купальщицы, канун Ивановой ночи. Притом опять-таки рядом с упоминанием о чтимом церковью пророке Давиде. Это усвоение, как стало принято говорить, народных традиций, сложившихся вокруг культа Ивана Купалы, а по сути языческой, то есть демонической, реальности его культа, сближаемое с церковным вероучением, было отнюдь не безобидным. Тем более что оно переплеталось проникновением или намерением проникнуть в области действий тех таинственных сил, проявление которых описывают главным образом мифы, объединенные культами луны и воды. «И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь». Эти полторы строчки из Второй элегии не поэтическая фигура – воспоминание ее близкой приятельницы В.С. Срезневской о «лунных ночах с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! она лунатик!»)» не единственно. Столь же биографична и ее внутренняя связь со стихией воды: родившаяся у моря, жившая на море каждое лето, она, по ее словам, «подружилась с морем», «плавала, как щука», по оценке брата-моряка. И еще, ссылаясь на поэму «У самого моря» – «знали соседи – я чую воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место». Отсюда в ее стихах – русалка, морская царевна и, наконец, китежанка. Из лунатизма – сомнамбула в «Прологе», одном из самых, как кажется, чернокнижных произведений Ахматовой.
Разумеется, не следует думать, что в реальность или атмосферу празднуемых ее дней рождения проникали подобные сведения и соображения. Если они приходили в голову, тодо или после. Но во время беседы, предшествующей усаживанию за стол и самому застолью, как правило, малолюдному, непышному, негромкому, они подспудно усиливали впечатление необычности, даже некоей нездешности того существа, той старой женщины, той дамы, в сторону которой тянулась твоя рюмка с напитком и твой язык выговаривал: «За вас, Анна Андреевна».
С кем вместе я оказывался в том или другом году, сейчас помню определенно только два этих дня. В 1964-м с писателями Меттером и Кроном (если, гм-гм, не Штоком – вот тебе иопределенно!) с женами, в Ленинграде, в квартире на Ленина. И в 1962-м – мы с Бродским приехали в Комарово, никого, кроме нас, не было. Ахматова записала в дневнике (прочел после смерти в опубликованном томе «Записных книжек»): «День рождения. Устала. Был Кома <В. В. Иванов> и <В. М.> Жирм<унский>. Вечером мальчики. Стихи Бродского – не альбомные». Мы опаздывали, приехали только к концу дня. Весь путь в электричке Иосиф писал стихотворение «А. А. А.» («Закричат и захлопочут петухи»). Я вез букет цветов, мог не беспокоиться. Строчку из стихотворения Иосифа, которую Ахматова выбрала на эпиграф к своей «Последней розе» – «Вы напишете о нас наискосок», – я всегда воспринимал, что напишете и «наспех» тоже. Строчки из его «Исаака и Авраама» о звуке ААА мы все тогда читали как имеющие в виду Ахматову. Две из них она переписала в дневник, чуть тронув и назвав их «Имя»: «По существу же, – это страшный крик, / младенческий, прискорбный и смертельный».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.