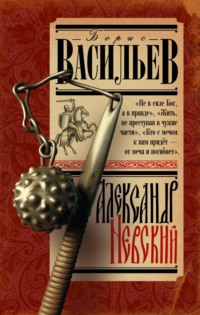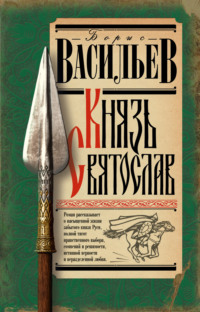Полная версия
Капля за каплей

Борис Васильев
Капля за каплей
Глава первая
Читал я или слышал… Может быть, слышал, может быть, в Крыму, ранним утром у моря. Было тихо, шуршала волна…
…И далеко-далеко от этих скал, от узкой полоски пляжа и еще дальше от времени, в котором я слушаю, – иной берег, иная волна. И голые ребятишки, дети рабов, собирают цветную гальку. А старики, уже непригодные ни для какой работы, неторопливо рассматривают каждый камешек. Цвет, форму, оттенок. И кладут в кучу, отвечающую цвету, форме и оттенку.
Потом рабы-художники создадут из этих камешков мозаики, которым не страшны века. Сказочные древнегреческие мозаики, и поныне радостно вспыхивающие веселыми красками, как только их омоет вода.
Но мне не успеть сложить свою мозаику. Само время мое рвется на куски, рассыпая кое-как склеенные сцены то ли жизни богов, то ли мифов моих…
1– Поедем в Крым, сынок.
У отца синие глаза и по два красных ромба в каждой петлице. И два ордена Боевого Красного Знамени. И двойная кавалерийская портупея: к ней полагается цеплять саблю, но отец саблю не носит. Он не расстается с офицерским наганом-самовзводом в потертой кобуре. Кобура старше портупеи: отец меняет портупеи, но первую в своей военной жизни кобуру не меняет никогда. Не из суеверия: просто он знает, сколько секунд ему надо, чтобы револьвер оказался в руке.
– Тебе же предлагают санаторий.
Это мама. Они с отцом поделили строгость и нежность, и маме досталась строгость. И темные мучительные глаза: я не боюсь ее взгляда – я мучаюсь от стыда, если что-то натворил.
– Надо ходить и смотреть, – улыбается отец.
– Почему же обязательно в Крым?
– Там есть на что смотреть, не уставая.
– Но там нет хлеба.
– Там люди. – Отец почему-то вздыхает. – Очень добрые люди.
– Там нет хлеба.
Я знаю, что такое хлеб. Это – великое знание: оно приходит тогда, когда уходит хлеб. Когда его делят поровну в школе и не поровну дома. Нет, мы не голодаем, но мама делит хлеб не поровну, и больший кусок вот уже который год достается мне.
Я хорошо знаю, что такое хлеб: это жизнь. Я знаю, что его нельзя есть на улице, потому что за него могут убить. Мне хорошо известно, как молчат голодающие, как они при этом смотрят и сколько крика в их застывших глазах. Они не закрыты даже у мертвых, и оставшийся в их глазах крик – это на всю вашу жизнь. Я это видел зимой тридцать второго. А ведь мне сейчас всего десять лет: что же я увижу еще?..
Может быть, именно этого и боится мама: что я еще увижу? О голоде не говорят и не пишут – голод кричит о себе сам. Он волнами идет с юга, и мама очень не хочет, чтобы мы ехали в Крым.
А отец хочет. Он закончил там свой поход по Гражданской войне и получил второй орден. И я понимаю, почему его так тянет в неизвестный мне Крым к невиданному мною морю.
– Мы пройдем пешком от Байдар до Алушты, сынок.
Мы пройдем: ведь мама непременно согласится. Голубые глаза отца сильнее всех ее страхов.
2Первое, что я постигаю в Крыму, – это что значит «жрать». Громко чавкая, заглатывая куски, всхлипывая, всасывать в себя все, что норовит проскочить мимо рта. И при этом сопеть, всхлипывать, стонать.
Жрет наш хозяин. Жрет все подряд: арбуз, коньяк, груши, яблоки. Отец медленно пьет золотистое вино и, кажется, совсем не слышит оглушительного чавканья и сопения.
– Если бы Федор опоздал с ударом, тебя бы смяли. Помнишь, как шли офицеры? Плечом к плечу, плечом к плечу.
– Знаю.
Кажется, отец говорит это слово, отвечая себе самому.
А я объедаюсь виноградом: я ведь никогда его не пробовал. И очень хочу запомнить вкус, чтобы рассказать в классе… Нет, я постараюсь запомнить вкус винограда не для разговоров. Почему у голодных детей такие большие глаза? Они вырастают, когда все остальное съеживается. Руки, ноги, лица. Щеки – скобки внутрь, и редкие, жалкие волосики девочек: от голода растут только глаза.
А я лопаю виноград на веранде дома в огромном саду под Симферополем. Два дня и три ночи мы ехали сюда в полупустом вагоне: на юг еще мало кто ездит. Юга привычно боятся. Но мы едем не просто в пассажирском: мы едем по литеру первого класса. Три раза в день нам полагается сладкий чай и по два куска хлеба со свиным жиром. Это очень вкусно. Очень.
– Оживают тут помаленьку, товарищ командир.
Отец любит поговорить и легко завязывает разговор даже с незнакомым человеком. А проводник сидит у нас в купе не меньше, чем в своем.
– То, что кошек, собак, ворон ели, то и в войну случалось. А вот чтоб трупы – того прежде не случалось, товарищ командир. Это уж вы не серчайте, это я не по слухам говорю: только помрет – еще теплого порубят, если силы остались, а нет – так целого в котел. Головой вниз: мозги наваристее.
Они разговаривают много, а я гляжу в окно, и в памяти остаются только осколки их разговоров. Осколки вонзаются в мозг осколками – это я успеваю сообразить позднее. Вонзаются и застревают.
– Оживают тут помаленьку, товарищ командир.
В Симферополе нас встречает старый сослуживец отца с одним ромбом и одним орденом. И вот мы в его доме. Я ем виноград и стараюсь запомнить вкус, а старшие вспоминают прошлое, и вкус этого прошлого – горьковатый.
– Мурзова знал? Когда Сиваш форсировали, судорога, что ли, его скрючила. Холодно было, а вода – по грудь, и упал он. Задергался и упал. И за меня цепляется. Ну оторвал я его от себя, конечно, даже вроде стукнул… Осуждаешь?
Молчит отец.
– До сих пор цепляется, веришь? До сих пор.
– Все они за нас цепляются.
– А почему? Бога ведь нет. Мистика!
А я ем виноград, и сок течет до локтей. И очень хочу запомнить вкус. Очень, очень, очень.
Входят полная смуглая женщина и девочка в бантах. Виноградины застревают у меня в горле.
– Здрасьте.
Отец встает, большими пальцами привычно перегоняя складки гимнастерки за спину.
– Та то же жинка моя, жинка! – Хозяин тянет отца за руку, усаживая на место. – Ступай отсюдова. Чаю хочу.
– Сейчас. Я сейчас.
Женщина уходит, оставляя девочку в бантах.
3Что умирает раньше – тело или душа? Говорят, что душа бессмертна, но если она теряет свое «я», свои память, стыд, боль, совесть, – она мертва, ибо уже абстрактна. Тогда она всего лишь бессмертный сосуд, каждый раз с новым рождением наполняемый новым вином. Так что же истекает раньше – моя кровь или мое вино? Что сочится по каплям слов?..
– Особняк наш в саду Христофорова. Бывшего буржуя.
– Особняк?
– Конечно, так положено. А разве у вас нет особняка?
Хорошенькая девочка чуть старше меня идет рядом.
Я вижу ее, хотя стараюсь не смотреть: дочь фронтового приятеля отца. Нас отправили гулять, когда женщина ушла за чаем и девочка осталась одна. Но я не хочу гулять вдвоем с девочкой, потому что все девочки стали казаться мне прекрасными и я утратил свободу. Я глупею в их присутствии и спешу соглашаться.
У нас нет особняка, нет сада, нет ящиков с вином и фруктами, которые я видел на веранде. Мы живем в двухкомнатной квартире с печным отоплением, и я до школы обязан принести три охапки дров. По-моему, у нас роскошное жилье, потому что до этого мы ездили по всей стране и жили, где придется. В бараках, вагонах, землянках, палатках. И у нас нет ничего, кроме книг и маминого чемодана: все остальное нам выдают. Столы, стулья, посуду, ложки и вилки, одеяла и простыни. Отец всегда говорит, что это замечательная система, что нас отлично снабжают, и поэтому мы таскаем из гарнизона в гарнизон только ящики с книгами да мамины вещи.
– Мы не буржуи.
Я упрямо смотрю в землю, и тон у меня земляной. Тяжелый и неприветливый, потому что я говорю через силу.
– Неправда, это мы не буржуи, мы из батраков! – с торжеством говорит девочка. – А вы как раз-то и есть настоящие буржуи, папа говорил.
Она спохватывается и замолкает. Я тоже молчу, а ей очень надо утолить любопытство. Просто необходимо, ее жжет изнутри.
– А правда, что твой папа – царский офицер?
– Не царский, вовсе не царский. Окопный.
Сколько раз меня допекали мальчишки отцовскими золотыми погонами. Я дрался и никому ничего не говорил, но мама дозналась, когда мне вышибли зуб. И объяснила разницу между царским золотопогонником и окопным командиром батальона. Но этой девочке я ничего не хочу объяснять, потому что помню кусочек разговора между мамой и отцом. Они думали, что я на улице, а я искал под кроватью закатившийся патрон.
– Вчерашние батраки били севрский фарфор и стреляли по богемским люстрам. Помнишь, как я пыталась объяснить им, почему этого не следует делать? А они громко хохотали и растапливали буржуйки Пушкиным.
– Это наша вина. Мы веками держали их в темноте.
– А теперь они просветились? Они волокут все, что могут отобрать или раздобыть. И хвастаются, у кого дом больше. Просто больше, в геометрическом измерении.
– Вероятно, период чисто количественного накопления необходим. Понимание придет потом, понимание – признак культуры. Так же как накопление – признак варварства.
– А не будет ли слишком поздно? – вздыхает мама. – Неуловимый шаг – и накопление превращается в самоцель. И уже нет места пониманию, что же есть истинные ценности. Не будет ли слишком поздно?..
Не будет ли слишком поздно?.. Культура вытекает из России, как кровь из продырявленного пулями тела. Сколько их всадили в тебя, Родина моя? Сколько пустили на тот свет душ, так и не успевших отдать тебе осмысленное, выстраданное, взлелеянное? Даже любви не успели тебе отдать. Миллионы таких, как я, умерли, не вернув любви, и ты стала суровее и злее, земля предков моих. Мы обокрали тебя не по своей вине, но – обокрали.
– А у твоего папы есть слуги?
Девочка продолжает изнемогать от злого любопытства. Я чувствую эту потаенную злобу, но не понимаю, откуда она в этом букете бантов. И тоже начинаю злиться: конечно, добро не всегда способно породить добро, но зло рождает только зло. Только зло, и ничего более породить неспособно.
Но это я понимаю в эпилоге жизни. Есть такие жизни – с эпилогом. И очень часто дело не в возрасте, а в том, есть ли в твоей жизни эпилог или нет. У меня оказался, а тогда, в сладкий симферопольский вечер, я очень рассердился:
– Твой папа умеет делать детекторный приемник? А печку может сложить? А кто чинит туфли тебе и твоей маме?
– Сапожник! – вдруг с ненавистью кричит она. – Сапожник чинит, а мой папа – командующий!
– Значит, это у твоего папы есть слуги.
Секунду она смотрит на меня, и я впервые не отвожу глаз. И вдруг вижу, как она некрасива во всех своих бантах. Она зла и тонкогуба, у нее острые ненавидящие глазки и щеки, которых хватило бы на половину девочек нашего класса, чтобы не смотрелись они так горько – скобками внутрь.
– Дурак!..
И стремительно убегает. А я остаюсь один в сладком саду неизвестного мне буржуя Христофорова.
4На зубах скрипит пыль. Здесь, в Бахчисарае, она серая и жесткая, злая и горькая. Сколько лет прошло, а я и в этот миг ощущаю ее горькое зло.
Неужели все было? Неужели я и в самом деле видел ханский дворец, «фонтан слез», могилы Гиреев? Неужели я слышал гортанный рокот базара, страждущие вопли ишаков, ржание лошадей, блеяние овец, скрежет не знакомых с дегтем арб?..
А до этого – фантастическое путешествие на автомашине командующего, того, что встречал нас, угощал виноградом. Он дал нам свой автомобиль с откидным верхом и шофера, но отец ведет машину сам, а шофер сидит сзади. Тарахтит мотор, нас бросает на рытвинах, желтая пыль тянется за нами, а я верчу головой и жалею, что нельзя одновременно смотреть в обе стороны. Но чаще всего и справа, и слева – сухие, выжженные солнцем склоны, занозисто-колючие даже для скользящего взгляда. Степной Крым – место, где можно только стоять: на этих упругих независимых колючках нельзя валяться, как тебе хочется.
У райсовета мы оставляем машину с шофером и идем к ханскому дворцу. И здесь отец бросает меня с наказом не высовываться за территорию музея. Я не успеваю вторично, теперь уже с экскурсоводом, пройти по залам, как отец возвращается:
– Идем.
На окраине в маленьком, ощутившем свою скорую кончину духане, нас ожидает человек в чесучовой тужурке и соломенной шляпе. Я не привык видеть людей в шляпах; я мальчик из военных городков, где «шляпа» – определение весьма неодобрительное, противоположное неукоснительной точности исполнения. Даже мой отец применяет это слово, роняя его коротко и весомо: «Шляпа!». А сейчас сидит со «шляпой», за деревянным столом в умирающем духане. И я сижу вместе с ними и ем грушу, которую дал мне иссохший человек в старой шелковой рубашке, подпоясанной наборным кавказским ремешком.
– Бахчисарай славится грушами, мальчик.
Он дал мне грушу и ушел, шаркая чувяками. А мне стало грустно от этих взрослых, ничего не определяющих слов, грустно и почему-то совестно, и даже груша не утешала меня. Я не ощущаю вкуса и потому слышу, о чем говорят взрослые.
– Три года назад начали чистить армию. Я заглядывал в кое-какие списки – так, по старым связям. И нашел знакомых, но не нашел тебя.
– Удивлен?
– Я бывший начальник разведки твоей кавбригады. Я хочу знать.
– Что ты хочешь знать? То, чего и я не знаю?
«Шляпа» молча прихлебывает вино. Неужели он был начальником разведки у отца? Наверное, он был плохим начальником разведки, потому что у него нет ордена.
– Я стал бояться, – вдруг говорит он. – Кажется, не я, а мы стали бояться, мы все. Почему? Мы же голой грудью перли на пулеметы и кричали гордые слова на площадях, когда нас вешали деникинцы.
– Тогда была война, а сейчас – политика. Армия не вмешивается в политику.
– Лукавишь. Занимаетесь вы политикой, вы, которые наверху. – «Шляпа» достает мятую пачку дешевых папирос, протягивает отцу.
– Ты забыл, что я не курю, Тимофей.
– Подумал, что мог закурить, – Тимофей прикуривает. – Ты узнаешь время? Я перестаю его узнавать, это не наше время. Это время говорунов: где они были, комбриг, когда мы с тобой ездили уговаривать Батьку?
Отец – комдив, и я сначала удивляюсь, что его называют комбригом, но потом соображаю, что старый друг в шляпе обращается к нему так, как привык обращаться. А тут опять появляется духанщик, приносит пахучее мясо – много мяса, пожалуй, месячную норму! – и скучно говорит пустые грустные слова:
– Бахчисарай славится шашлыками.
Мы начинаем есть мясо. Оно острое, жгучее, ароматное; мужчины запивают его густым вином, а я – водой. И ем, ем – никогда еще я так вкусно не ел.
– Видел фильм «Красные дьяволята»? Там показано, будто Махно печатал деньги. Зачем врут? Нестор Иванович никогда не печатал никаких денег. Все печатали, а он – нет. Он был честным. Думаю, самым честным, вот как я думаю.
– Поэтому ты и ушел.
– Не поэтому. Где тебя достала офицерская пуля? Под Форосом?
– За Форосом. На пароходы смотрел. Они были перегружены и гудели во все стороны… Рыдали во все стороны, а из моря торчали головы. Как пни после порубки. По ним били из пулемета, по тонущим. Я хотел остановить, но кто-то выстрелил.
– Значит, не все еще были в море.
– Пуля звания не имеет. – Отец усмехается в усы. – Ее звание – калибр, и била она из твоего допотопного кольта. Ты хотел убить меня, Тимофей.
– Если бы хотел – убил.
Мужчины не повышают голосов и не задают вопросов. Зачем зря спрашивать, когда все уже прошло? Отец жив, и его бывший начальник разведки тоже жив, и лучше молча пить вино.
– У Батьки на тебя была последняя надежда. Почему он верил тебе, а взял слово с меня? Брал слово с меня, а тебе просто верил и отдал две тысячи лучших своих сабель лично под твое начало. А ты их бросил, комбриг. Они ворвались в Крым первыми, они проложили дорогу нашей бригаде, а ты их бросил и ускакал аж за Форос смотреть, как тонут беляки.
– Беляки – тоже люди.
– А махновцы не люди? Пока ты метался по берегу, их твоим именем отвели под Ачи-Курган, приказали спешиться и ждать. И когда они спешились и отпустили подпруги, вылетели четыре тачанки, и с них в упор открыли огонь. По людям, по лошадям, я такого не видывал. Из крови шел дождь. Четырнадцать лет мне снится этот дождь. Только Марченко вырвался через Перекоп с двумя сотнями хлопцев, только Марченко. А Батько сидел в Гуляй-Поле и верил тебе.
– Таков был приказ.
– Ты знал, что хлопцев все равно кончат.
– Таков был приказ.
– И поэтому ты сбежал на побережье.
– Я искал младшего брата. А потом ты догнал меня и почему-то не убил.
– Не знаю.
Это едва ли не первая пауза в их стремительном, почти истерическом разговоре, который я скорее воспринимаю чувством, чем понимаю разумом. И, кажется, испытываю что-то похожее на стыд.
– Я искал брата. Сопляка-гимназиста, который ушел с Врангелем за романтикой. Я хотел набить ему физиономию и увезти с собой.
– Выпьем, комбриг. Мы были на похабной войне.
– Мы были на войне, где не нашлось победителей. Одни побежденные.
– Я дал слово Батьке, хотя он меня об этом не просил. Просто сказал, что… Зачем я дал тогда слово?
– Потому же, почему ты промахнулся под Форосом из верно пристрелянного кольта. Ты устал воевать, Тимофей.
– Мы были на похабной войне, комбриг. Пей за наши обещания и наши пулеметы.
Глиняные кружки глухо сталкиваются над столом.
5Следующим утром мы останавливаемся на пыльной развилке, немного отъехав от Бахчисарая. Отец вынимает из машины свернутые в одну скатку шинель и одеяло и два армейских вещмешка.
– Дальше мы пешком, – он протягивает руку шоферу. – Спасибо, товарищ.
Шофер машет рукой и разворачивается. Он едет назад, в Бахчисарай, но мы стоим, пока машина не скрывается за поворотом. Отец поднимает скатку и вещмешок.
– Спеши медленно, сопи тихо – сто лет проживешь.
Да, он так сказал, я точно помню. Он был провидцем, мой отец, и желал мне счастья. Но я с ним разминулся, со своим счастьем. Мы пошли по разным дорогам, и мое счастье, не встретив меня, где-то растерянно бродит в этом мире.
Мы идем по пыльной, завинченной в бесконечную спираль дороге все вверх и вверх, петля за петлей. Знойная тишина застыла в знойном безветрии, пахнет пылью и колючками, а петли все круче и выше, выше и круче.
– Перекур десять минут.
Отец не курит, но короткий отдых именуется перекуром. Я сбрасываю панаму, сажусь на дороге и хватаюсь за фляжку.
– Отставить.
Вновь панама на голове, а фляжка на поясе. Я не спорю, не прошу, хотя так хочется смыть застрявший в горле знойный колючий ком. Но пить в жаркий полдень – табу: воду пьют только утром и вечером. Отец внушил мне эту истину раньше, чем я научился просить воды. И вообще он – человек табу: нельзя то, нельзя то, нельзя то. Не только для других, но прежде всего – для себя.
– Не клянись – и не будешь клятвопреступником. Не обещай – и не станешь обманщиком. Не давай честных слов – и никто не обвинит тебя в бесчестии.
Он, безусловно, прав, но я так не могу. И если мне не верят, даю «честное советское», «честное пионерское» и даже «честное под салютом всех вождей». Может быть, потому мне так часто и не верят?
Давно кончился «перекур», мы вновь ввинчиваемся в раскаленную высоту. Виток за витком, виток за витком по выжженной до горечи горной дороге. По ней очень трудно ходить в сандалиях: острые камешки забиваются под голую ступню, под пальцы, приходится останавливаться, вытряхивать помеху, догонять отца.
– Береги ноги, сынок. Надо всегда беречь ноги, особенно на войне. Без головы умереть – легче легкого, а без ног помирать очень трудно. Трудно, сынок, ползти за смертью.
Знаю, отец. Я берег ноги, но не сумел сберечь, ты уж прости. Это моя личная вина, мне некого проклинать. За мои ноги и за мою жизнь.
– Терпи, сынок. Еще немного.
Терплю, отец. Еще немного. Еще немного. Я помню, как стучало в висках на последнем подъеме. Сейчас тоже стучит, хотя я лежу. Стучит, с каждым ударом выбрасывая из моего тела теплый фонтанчик крови…
– Ты запомнишь сегодняшний день на всю жизнь. Все зависит от длины жизни, отец. Хотя ты по-своему прав: жизнь есть единица измерения чего-то. Всеобщего горя, грехов, глупостей, слез ребенка и мировых страданий, позора девушки и отчаяния матери, боли, болезней, бессилия. Сколько сотен миллиардов жизней надо отсчитать, чтобы оплатить счет, предъявленный человечеству свыше? Страшный Суд уже начался, и Первая мировая война была его первым заседанием. Отец легко шагает впереди, а меня ноги тянут назад. Каждый шаг – преодоление собственной тяжести. За поворотом – проем вверху, на горе, ведущий прямо в небо. Дорога закладывает перед проемом последний вираж, я преодолеваю его, обливаюсь потом, и оказываюсь…
– Байдарские ворота, сынок!
Отец торжествующе простирает руку, даря мне море. Огромное, спокойное, мерно вздыхающее, перекатывающее мускулы-волны от горизонта до горизонта, бесконечное в пространстве и времени. Праматерь всего живого на Земле, будь вечна, неизменна и благословенна! Мы ушли из чрева твоего, навсегда унеся тело твое в своей крови и дыхание твое в биении сердец. И смерти нет. Нет. Есть лишь возврат к тебе, Мать, воссоединение с тобой…
Глава вторая
1– Сына, поедем в Крым?
Сына – это я, и так называет меня только мама. Для нее это как имя.
– Зашла в штаб узнать, когда папа вернется из командировки, а мне – путевку на два лица. Крым, Коктебель, май месяц. Я уже была в школе, договорилась. Завтра выезжаем, сына. Крым!..
Интересно, какой он, мамин Крым? Чем отличается от отцовского? В том, что отличается, я не сомневаюсь. Я уже понял, что мы существуем в двойной системе – в мужской и женской, и все, все решительно делится на два. На зиму мужскую и зиму женскую, на грозу мужскую и грозу женскую, на женскую Москву, в которой мы теперь живем, и Москву мужскую, на… Все имеет два знака, две оценки, два понимания, и мамин Крым совсем не будет похож на Крым отца. С его атаками, проклятиями, подпругами, кровавыми дождями и выстрелами из старого кольта. Обожженный, жесткий, запекшийся – таков отцовский Крым. А мамин?
Завтра мы выезжаем. Плацкартным вагоном Москва – Феодосия: его отцепят в Джанкое. Я лежу на второй полке, смотрю в окно и жую пряники. Ах, как это прекрасно: лежать, смотреть и жевать пряники! Новых радостей не бывает, мы наследуем радости прошлого, и дети завтрашнего века с тем же восторгом воспримут преодоление пространства. Разве что без пряников.
– Я прошла политбойцом всю Гражданскую. У полит-бойца разные обязанности, но задача одна: просвещение. Народ, воспитанный на мифах религии, не может ощущать себя свободным, пока не познает окружающую действительность…
Журчит внизу мамин голос. Ее слушают уважительно, лишь изредка позволяя уточняющие вопросы. Для других сейчас – не время.
– Простите, что вы сказали? Нет, я не работаю с той поры, как родила сына. Знаете, высший долг женщины – семья, воспитание детей, здоровье родных. В этом смысл женского начала самой природы, и искать иного – значит, нарушать законы естества. Следующее поколение, то есть наши дети, должно быть умнее, сильнее, здоровее и благороднее нас. Только при этом условии колесо истории будет катиться вперед, а не вращаться вхолостую.
Мамин голос. Я слышал его еще до рождения, но воспринимал, как добрый рокот волн, на которых выплыву в жизнь.
«Сына, почему ты бледный? Что случилось?..»
Ничего, мама, просто я иду к тебе. Я возвращаюсь: ведь ты сейчас слилась с морем, правда? Я возвращаюсь к вам – к тебе и к морю. По каплям – к вам.
Я не видел маминого Крыма, я не знаю, какой он; чем отличается от отцовского, лучше или хуже его. Не знаю и уже не узнаю.
В Джанкое расходятся пути. На юг – в Симферополь, где три года назад я гулял по саду буржуя Христофорова с девочкой в бантах. Где она сейчас, интересно?.. И на восток – там Феодосия, а рядом – Коктебель.
– Поезд стоит четыре часа, сына. Может быть, погуляем, посмотрим город? Семнадцать лет назад в него первыми ворвались конники твоего отца.
– Ура-а!..
Мама смеется. Я кричал, чтобы она рассмеялась: я-то помню разговор в Бахчисарае о двух тысячах сабель Махно. Но мама так редко улыбается в последнее время.
А на платформе возле дверей вагона – военный комендант. Смущен, часто вытирает пот, снимая фуражку. Но – непреклонен:
– Вам надлежит тотчас же выехать в Москву. Вот билеты. Поезд через два часа тридцать семь минут.
– Почему? Зачем? Чье это распоряжение?
– Обождите в моем кабинете. Покажите, какие вещи. Прошу.
– Что-нибудь с мужем? С мужем?..
– Прошу. Не задавать. Вопросов.
Все отхлынули. Между нами и пассажирами вагона Москва – Феодосия зона карантина. Я ощущаю ее, не понимая. Ощущаю физически: я прокаженный. Мы прокаженные.