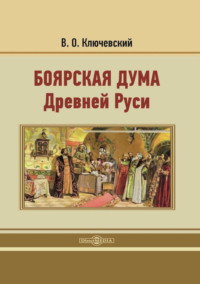Полная версия
Краткий курс по русской истории
– Русские Вальтер Скотты вообще очень плохо знают историю. Исключение составляет только граф Сальяс. Он… совсем не знает истории!
Однако кандидатуру в русские Вальтер Скотты выставляли иногда люди, которые историю очень и очень знали, не хуже даже того, кто изрек этот насмешливый, но справедливый приговор. Вспомним Костомарова с его «Холуем», «Сыном» и «Кудеяром». Он-то уж, конечно, обладал в полной мере тою привычкою переноситься памятью в обстоятельства и воображением в обстановку прошлого, которая создает исторического романиста. Задатки художественности в нем также были, – недаром же смолоду его столько травили за «фельетонизм», т. е. общедоступную яркость его лекций. Может быть, когда в старости Костомаров убедился этими нареканиями, что писать ученые труды надо скучно, а тайная потребность в окаянном «фельетонизме» в нем все-таки жила, он и стал избывать ее историческими романами и повестями. Но русского Вальтер Скотта и из него не вышло. Если он поднялся выше уровня Данилевского, Мордовцева, Сальяса, Всеволода Соловьева и тому подобных, то лишь страницами любопытных археологических описаний. Художественности же в его исторической словесности несравненно меньше, чем в иных молодых трудах его же историографии. Укажу хотя бы на главы о Мстиславе Удалом, о Ваське Буслаеве из «Северных народоправств». Так что, очевидно, не только в знании здесь дело.
Я не охотник до гаданий и не задамся вопросом, мог ли бы или нет Вас. Ос. Ключевский сделаться русским Вальтер Скоттом, если бы пришла ему к тому охота. Но знаю, что каждая характеристика, созданная Ключевским, до такой степени законченно и совершенно исчерпывала психологическое содержание личности, типа, эпохи, слагала такую цельную и неопровержимо убедительную фигуру, что вдвинуть ее в роман или драму после картины Ключевского было бы непосильным делом для художника средней руки. Да! уж чего же интереснее было бы видеть и следить, как короткие три-четыре странички Ключевского развиваются действием на протяжении целого тома или четырех-пяти действий сценического представления! Но ведь это почти то же самое, что требовать: напиши новую «Капитанскую дочку», «Войну и мир», Шекспирову хронику, «Саламбо» Флобера, «Пармскую шартрезу» Стендаля. Мережковский сравнительно крупный пригорок на глади русского исторического романа. Это писатель и талантливый, и знающий. Но я никому не посоветую готовиться к прочтению его «Петра и Алексея» по соответственным лекциям и статьям Ключевского. Иначе вас постигнет вместо удовольствия, на которое вы вправе рассчитывать, большое разочарование: историк-то показывал вам живые лица, хоть рукою их щупай, а романист (а тем паче драматург) показал только сработанные опытною рукою «живули» – движущиеся фигуры-автоматы.
Отличительные свойства характеристик Ключевского – простота средств, ясная стремительность темпа и быстрая находчивость в образе – еще и еще сводят его с Пушкиным. Ключевский находил, что чуть ли не все фигуры, сохранившиеся для нас в мемуарах XVIII века, укладываются по категориям в галерею пушкинских типов в «Арапе Петра Великого», «Дубровском», «Капитанской дочке». Он пробежал эту галерею из конца в конец на пятнадцати страницах «Евгения Онегина и его предков» и, с быстротою кинематографического фильма, успел на таком коротком расстоянии провести пред нашими глазами все фазисы и смены европеизации русского дворянина за двести лет, – от первобытного «Нелюб Злобина, сына такого-то» до «москвича в Гарольдовом плаще». Безграмотный предок Нелюб-Злобин; сын его – выученик латинской школы Спасского монастыря на Никольской в Москве; внук – навигатор, птенец Петра Великого; правнук – офранцуженный вольтерианец; праправнуки, из которых старший брат – сознательный патриот в эпоху Наполеоновских войн и будущий декабрист; средний брат – будущий бюрократ-западник, который, отбыв годы разочарования в патриотизме при Александре I, успокоился в казенном делечестве при Николае I; а третий, младший брат – «поэтическое олицетворение нравственной растерянности» – и есть Евгений Онегин. В сменах этих Ключевский не дал ни одного частного портрета; все они созданы в порядке художественного вымысла; для «типического исключения» – типическое обобщение. Но как же изображены все эти несчастные сменники, вечно и фатально учившиеся не тому, что впоследствии заставляла делать их быстро несущаяся жизнь, – почему они, со своим образованием и воспитанием некстати, неизменно, из поколения в поколение, не выходили из положения того сказочного чудака, который пел «Со святыми упокой» на свадьбе и «Исаия ликуй» на похоронах, за что и претерпевал жестокие неприятности. В мягком свете любвеобильного юмора вымысел оделся в плоть и кровь, вы принимаете его воображенных героев, как своих добрых знакомых и друзей, и вам неважно, что Ключевский даже не заботится их окрестить какими-нибудь именами. В итальянских картинных галереях вы часто видите на полотнах художников позднего Возрождения портреты неизвестных лиц, которые, однако, ценятся и знатоками искусства, и историками культуры больше, чем даже заведомые портреты лиц исторических. Потому что эти изображения неведомых, начертанные Тицианом или Бордоне, утратив свои имена и личность, перестали выражать индивидуальность в эпохе, а сделались как бы собирательным зеркалом характерных черт, портретом самой эпохи. Вот именно такова и словесная живопись в анонимах Ключевского. Мне очень жаль, что время не позволяет мне восстановить в вашей памяти цельностью один из этих превосходных отрывков. Вспомним хоть вкратце злополучного латиниста, которого киевский старец в Спасском монастыре наставил под батогами по греческим и польско-латинским, писанным русскими буквами, словарькам великой премудрости, что «ликос» есть «волк», «луппа» – «волчица», «спириды» – «лапти» и т. д.
Выучил писать хитрые вирши и прелагать в них акафисты и церковные песнопения. «Но время шло, разгоралась Петровская реформа, и чиновного латиниста с его виршами и всею грамотичною мудростью назначили комиссаром для приема и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы и помня государеву дубинку, он впервые почувствовал себя неловко со своим грузом киевской учености и со вздохом спрашивал: зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды?..» А птенец Петра Великого, навигатор, воодушевленный идеями его реформы? Он имел несчастие опоздать, – вернулся из заграницы в Петербург, когда Петр умер и до реформы уже никому не стало дела, но высшее общество дорого платило немцу за то, что в барабан бил и на голове стоял. Неудачник мечтал служить России, а попал – в бироновщину. «Раз на святках он отказался нарядиться и вымазаться сажей. За это его на льду Невы раздели донага, нарядили чертом и в очень прохладном костюме заставили простоять на часах несколько часов; он захворал горячкой и чуть не умер. В другой раз за неосторожное слово про Бирона его послали в Тайную канцелярию к Ушакову, который его пытал, бил кнутом, вывертывал ему лопатки, гладил по спине горячим утюгом, забивал под ногти раскаленные иглы и калекой отпустил в деревню, где он, при малейшем промахе дворовых, выходил из себя и, топоча ногами, бесконечно повторял: „Ах вы, растрепоганые, растреокаянные, не пытанные, не мученные и не наказанные!“ Впрочем, он был добрый барин, редко наказывал своих крепостных, читал вслух себе самому Квинта Курция „Жизнь Александра Македонского“ в подлиннике, занимался астрономией, водил комнатную прислугу в красных ливреях и напудренных волосах; страдая бессонницей, с гусиным крылом в руке сам изгонял по ночам сатану из своего дома, окуривая ладаном и кропя святою водою нечистые места, где он мог приютиться, пел и читал в церкви на клиросе, дома ежедневно держал монашеское келейное правило, но дружно жил с женой, которая подарила ему 18 человек детей, и, наконец, на 86-м году умер от апоплексического удара. Однако привезенные им из Голландии математические и навигационные познания остались без употребления»… Какой твердый, ясный рисунок, господа! какая яркая и вместе с тем естественная красочность! Разве это не тон большого природного романиста? Больше того: разве это не тон автора «Капитанской дочки» и летописца села Горюхина?
Досюда мы говорили о крупных, законченных характеристиках нашего художника. Но, как в мастерской Репина бесчисленные этюды часто бывают не менее, а иногда даже более интересны, чем выработанная затем из них картина, так точно и в мастерской Ключевского чрезвычайно любопытно следить за проходящими, как бы мельком бросаемыми, случайными ударами и мазками кисти. Очень часто он отделывается от какой-либо попутной исторической встречи одною характерною фразою, кличкою, цитатою, в два-три слова. Самим ли Ключевским остроумно измышленные, метко ли заимствованные им из летописи, мемуара, литературного или законодательного памятника, они припечатывают то тот, то этот лоб, как неизгладимые клейма. «Обезьяна да нездешняя» (придворный Екатеринина века); «припадочный человек» (самодур Троекуров в «Дубровском»); «просвещенные лунатики» (люди начала царствования Екатерины II); «умный ум» (о Екатерине II); «запоздалая татарщина» (эпоха Бирона); «иностранная и враждебная колония на Русской земле» (Петербург при Бироне); «богорадное жестокое житие» (о расколоучителе Капитоне); «наемная сабля, служившая в семи ордах семи царям» (о генерале Патрике Гордоне); «возница, который что есть мочи настегивает свою загнанную исхудалую лошадь, а в то же время крепко натягивает вожжи» (Петр в финансовой политике); «многомысленная и беспокойная глава» (Петр); «первый трагик странствующей драматической труппы, угодивший в первые генерал-прокуроры» (сотрудник Петра, неистовый Ягужинский); «Новая Паллада в кирасе поверх платья, только без шлема, и с крестом в руке вместо копья, без музыки, но со своим старым учителем музыки Шварцем» (Елизавета в ночь переворота); «принцесса совсем дикая» (Анна Леопольдовна); «генералиссимус русских войск, в мыслительной силе не желавший отставать от своей супруги» (муж Анны Леопольдовны, Антон Ульрих Брауншвейгский); «управляли и жезлом, и пырком, и швырком» (Долгорукие при Петре II); «старый Дон Кихот отпетого московского боярства» (верховник Голицын); «самая веселая и приятная из всех известных, не стоившая ни одной капли крови, настоящая дамская революция» («петербургское действо» 1762 г., низвержение Петра III Екатериною II). И так далее. Все эти короткие отметки золотыми иглами входят в память и оставляют в ней вышитый узор уже навсегда прочным и нелинючим.
Разбросанные в моем чтении отрывки дают нам достаточный материал для суждения о языке Ключевского. Как и пушкинская проза, это язык настоящего, природного великоруса, одаренного исключительно тонким чутьем к законам и требованиям своей родной речи. А потому он чрезвычайно прост и легок. По крайней мере, повидимости. Потому что в действительности-то, как выразился однажды Вас. Осип., – «легкое дело тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить – тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово – что походка: один ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит». Это физиологическая «гармония мысли и слова» может быть развита и изощрена научным изучением языка (в чем, конечно, у Ключевского было тоже немного соперников на Руси), но едва ли искусственное приобретение здесь в состоянии когда-либо достигнуть уровня свободы и богатства владения наследственного, естественного. В настоящее время в России чрезвычайно много писателей из инородцев, которые, однако, изучили русский язык лучше кровных русских, великие знатоки грамматики и стилистики, чуть не наизусть выдолбили Далев словарь от аза до ижицы, и все-таки, за весьма редкими исключениями, – такими редкими, что, по правде сказать, я их почти не знаю, – русское ухо слышит в их чистой, красивой, изощренной, щегольской речи чуждый себе строй и звук. Что же касается литературного щегольства богатством языка, то в последние два десятилетия это, – казалось бы, по существу, – несомненное достоинство мало-помалу начинает обращаться в весьма неприятный порок. С одной стороны, школа последователей Лескова, с другой – сильно развившаяся этнографическая беллетристика наводнили литературный язык перегрузом безнужных неологизмов, барбаризмов и в особенности провинциализмов, – так что за ними совершенно исчезает иногда естественное течение литературной речи. Сейчас не диво встретить рассказ или повесть, для точного разумения которого русский читатель должен на каждой странице раза по два заглядывать в толковый словарь Даля (академический не в помощь, потому что доведен только до половины алфавита). И это даже модно, именно этим создалось несколько довольно громких имен. В действительности такие щеголи языка очень напоминают тех франтов дурного тона, что унизывают перстнями с брильянтами и самоцветами (а то и стразами) немытые пальцы и шикарнейшим костюмом по последней моде прикрывают чуть не полное отсутствие белья. Это не богатство языка, а маскировка его скудости подложною выставкою, декоративно рассчитанною на близорукость, неразборчивость и малое осведомление публики. Лесков хороший писатель, но лесковщина – дело весьма плачевное, так как обычно ее представители, не унаследовав ни одного из внутренних литературных достоинств покойного Николая Семеновича, наивно или умышленно принимают за них его внешние недостатки, из них же первыми были преднамеренная вычурность и кривляние словом. Но и тут орловца Лескова выручало, а иной раз даже и оправдывало великолепное естественное знание и чутье великорусской речи, тогда как маленькие современные Лесковы танцуют свои словесные па и коленца, не выучившись раньше трем позициям. Нет ничего легче, как, вооружившись словарем Даля или каким-нибудь областным, либо древнерусским, механически нахватать хлестких и замысловатых речений и, подставив их, где надо, в порядке синонимов, состряпать затейливую амальгаму, которою читатель «весьма изумлен бывает» и добродушно принимает ее за настоящую «стилизацию». Брильянты и даже стразы слепят глаза, но истинно богатые и хорошего тона люди не делают из себя брильянтовой выставки, а тем более стразовой. Отчего знатоку не побаловаться иной раз – не написать записки, письма, маленькой статейки, притчи, фельетона языком Несторовой летописи, Слова о полку Игореве, Котошихина, Ломоносова, Карамзина, либо каким-нибудь местным наречием? Подобных фокусов в архивах русской письменности немало – и, к слову сказать, покойный Вас. Осип. был на них сам великий мастер и большой ценитель этой способности в других. Я лично когда-то, лет двадцать тому назад, имел удовольствие развеселить его повествованием о финансовых неудачах графа Витте, изложенных языком Несторовой летописи. Но посвятить себя такому словесному канатохождению специально и предаваться ему с серьезною и многозначительною миною священнодействующих жрецов – цель и упражнение более чем сомнительные. Это даже не лесковщина, но – Лейкин наоборот. Богатство языка должно чувствоваться, как скрытый натуральный запас, в фундаменте литературного здания, а не лепиться по его фасаду бесчисленными розетками и завитками аляповатых украшений. И вот это-то чувство меры в пользовании своим словесным миллионом и есть коренное качество языка Ключевского. Несмотря на то, что, казалось бы, самый предмет толкал его, русского историка, ежеминутно к излишествам – смотрите, как он экономен и сдержан, и именно поэтому каждый раз, когда он являет свой словесный капитал, как он тогда эффектен и выразителен! Его архаизмы – никогда не франтовство, не фатовство, но – органическая потребность изложения. Уместностью одного такого, из существенной глубины предмета выхваченного словечка Ключевский наполняет колоритом картину в несколько страниц, но он брезгует «выезжать на колорите». Очень редко оставляет он внеобычное слово без объяснения, откуда оно взялось и почему ему понадобилось. Почему нынешний «взгляд на вещи» для масонов века Екатерины лучше определяется тогдашним словом «умоначертание»; почему развитие характера Екатерины укладывается в «самособранность»; что значит «огурство» недорослей XVII века, когда они «в службу поспели, а службы не служили» – «огурялись», «лыняли», как говорили тогда про служебных дезертиров и саботажников, живших девизом: «Дай Бог великому государю служить, а сабли б из ножен не вынимать». Таким экономным, осторожным, умелым и всегда мотивированным вкраплением Ключевский создал синтез языка – тысячелетнего древа, по которому растекается мыслью русское слово, сближая поверхность его с глубинами, новую листву с старыми корнями. Зачем чрезмерно обнажать старые корни? С того дерево только сохнет. Деревья говорят с нами шумом листьев своих, а не торчанием вверх вывернутых корней. Но надо, чтобы шум листьев говорил чуткому уму о всей совокупности дерева – и о ветвях, и о стволе, и о зарытом глубоко в землю питателе-корне. Вот этого-то счастливого результата и достигал Василий Осипович.
Мы, русские, народ, очень небрежный к своим большим людям, плохо бережем их при жизни, а по смерти их удивляем мир своей неблагодарностью к их памяти. Хороших покойников у нас обыкновенно помнят, покуда колокол звонит да вдова плачет. Однако Вас. Ос. Ключевский и в этом случае оказывается счастливым исключением, что свидетельствует уже вот этот переполненный публикой зал собрания в честь его имени; что свидетельствует усердный спрос на собрание его сочинений. Переизданное в 1919 году Комиссариатом по народному просвещению в огромном количестве экземпляров, оно уже опять обратилось в библиографическую редкость. Нет сомнения, что, находись мы в сколько-нибудь нормальных типографских условиях, Ключевского можно было бы бесстрашно издавать еще и еще, как издаются Пушкин, Толстой, Лермонтов, Чехов. Это очень утешительное явление, почти неожиданное в грустных условиях наших переживаний. Между нами и кончиной Ключевского легло десять лет, – и каких лет! Даже мрачное из мрачных начало XVII века, столь отчетливо изученного и изображенного покойным историком, уступало нашим временам по хаосу, разброду, нужде, растерянности и общему ужасу жизни. Если мы, даже в этаком апогее смутного времени, не разучились помнить и любить Ключевского, значит, крепко он нам нужен, значит, жизнь его среди нас не кончилась могилой, но будет еще долга, может быть, вечна. А это не только отрадный знак, но и отрадное знамение – в своем роде прорицание. Любить Ключевского, – в его ли исторических идеях, в его ли художестве, – значит тянуться сердцем и умом к национальному чувству, к национальному самосознанию, к национальному творчеству. Бесчисленные и часто жестокие усилия употреблены политической современностью для того, чтобы низвести национальную идею с пьедестала, обратить ее в безразличность, довести до упразднения и забвения. Самое слово «отечество» сейчас допускается не иначе, как с эпитетом «социалистическое», принципиальный интернационализм которого стоит в резком логическом противоречии с идеей «отечества» и, следовательно, обращает ее в неосуществимый абсурд. И вот – в такое-то время, в таких-то политических и социальных условиях, под дирижерскою палочкой таких-то капельмейстеров нашего быта, – кто же все-таки оказывается властителем наших дум, желанным учителем, любимым художником? Человек, который был весь, душою и телом, чисто национальная ткань; для кого полуотверженное слово «отечество» было святейшим исповеданием веры; кто в мысли и деятельности своей бывал иногда, может быть, даже слишком националистом. Нет страницы у Ключевского, которая идейно могла бы быть приятна интернационалисту, – тем не менее Третий интернационал нашел необходимым переиздать его сочинения чуть ли не в первую очередь классиков. Нет страницы у Ключевского, в которой бы он являлся угодником Западной Европы, однако Западная Европа знает, уважает и высоко ценит Ключевского. Поскольку это зависит от научных его заслуг, выясняют вам сегодня другие компетентные ораторы. Я же, подходя к вопросу лишь со стороны художественной, вижу здесь торжество старого, но вечно твердого, хотя и парадоксом звучащего, положения, что в искусстве интернациональным делается только то, что по существу своему совершенно национально. Ключевский оправдывает эту истину вместе с Пушкиным, Толстым, Достоевским, Мусоргским, Бородиным. Вместе с ними, он – наш вечный спутник, своею национальною оригинальностью растворяющий пред нами двери в международность. Громадный посмертный успех Ключевского – лестный аттестат не только для совершенного им огромного подвига, но и для русского общества. Свидетельство того, что русскому человеку по-прежнему дорого его самосознание. Значит, не все еще вытравлено и разменяно. Жива еще и властна в нас некая внутренняя – великая и таинственная – церковь русского духа, и обаятельные ее служения – залог того, что заветы ее могут замирать, но не умирать, и простоит она вечно, и «врата адовы не одолеют ю».
Ал. Амфитеатров, 1921. V. 26.Краткий курс по русской истории
Природа восточно-европейской равнины
В географическом очерке страны, предпосылаемом общему обзору ее истории, необходимо отметить те физические условия, которые оказали наиболее сильное влияние на ход ее исторической жизни.
Две особенности отличают Европу от других частей света и от Азии преимущественно: 1) разнообразие форм поверхности, 2) чрезвычайно извилистое очертание морских берегов. Нигде горные хребты, плоскогорья и равнины не сменяют друг друга так часто, на таких сравнительно незначительных пространствах, как в Европе. Здесь на 30 кв. миль материкового пространства приходится 1 миля морского берега, тогда как в Азии 1 миля берега приходится на 100 кв. миль материкового пространства. Наиболее типичной представительницей этих особенностей Европы является южная часть Балканского полуострова, древняя Эллада: нигде море так не избороздило берегов, как с восточной ее стороны; здесь такое разнообразие в устройстве поверхности, что на пространстве каких-нибудь двух градусов широты можно встретить почти все породы деревьев, растущих в Европе, а Европа простирается на 36 градусов широты. Европейская Россия не разделяет этих выгодных природных условий Европы или, точнее, разделяет их в одинаковой степени с Азией. Море образует лишь малую долю ее границ; однообразие – отличительная черта ее поверхности. На огромном протяжении это – равнина, волнообразная плоскость в 90 000 кв. миль, т. е. площадь, равняющаяся более чем 9-ти Франциям и очень немного сравнительно приподнятая над уровнем моря. Даже в Азии, среди ее громадных сплошных пространств одинаковой формации, такая равнина заняла бы не последнее место: так, Иранское плоскогорье почти вдвое меньше ее. В довершение сходства с Азией эта равнина на юге переходит в обширную маловодную и безлесную степь тысяч в 10 кв. миль, приподнятую всего саженей на 25 над уровнем моря. По геологическому строению эта степь совершенно похожа на степи Азии, а географически она составляет их прямое, непрерывное продолжение, соединяясь с азиатскими степями широкими воротами между Уральскими горами и Каспийским морем и простираясь сначала широкою, а потом все суживающейся полосою по направлению к западу, мимо морей Каспийского, Азовского и Черного. Это как бы азиатский клин, вдвинутый в Европейский материк и тесно связанный с Азией исторически и климатически. Урало-Каспийскими воротами издавна хаживали в Европу азиатские кочевые орды. Умеренная Западная Европа не знает такой изнурительной летней жары и таких страшных зимних метелей, какие бывают здесь, а последние заносятся сюда из Азии.
Климат. От однообразия формы поверхности в значительной мере зависит и климат равнины. На огромном пространстве от линии Вайгачского пролива (Югорского Шара), почти под 70° с.ш., до 44° с.ш. идущего по северному предгорью Кавказского хребта, мы ожидаем резких климатических различий. По особенностям климата наша равнина делится на 4 климатических пояса: арктический, по ту сторону Северного полярного круга, северный, или холодный, от 66.5° до 57° с.ш., средний, или умеренный, охватывающий центральную полосу равнины (57°–50°), и южный, теплый, или степной. Но климатические особенности этих поясов гораздо менее резки, чем на соответствующем пространстве Западной Европы; однообразие формы поверхности делает климатические переходы более постепенными. В Европейской России нет значительных гор меридионального направления, которые производили бы резкую разницу в количестве влаги на их западных и восточных склонах, задерживая облака, идущие со стороны Атлантического океана, и заставляя их разрешаться обильными дождями на западных склонах; нет в России и значительных гор поперечного направления, идущих с запада на восток, которые производили бы значительную разницу в количестве теплоты на севере и на юге от них. Ветры, беспрепятственно носясь по всей равнине, сближают в климатическом отношении места, очень отдаленные друг от друга по географическому положению. Моря, которые окаймляют Россию с некоторых краев, производят слабое действие на климат внутреннего пространства страны; из них Черное и Балтийское слишком незначительны, чтобы оказывать заметное влияние на климат такой обширной равнины, а Ледовитый океан со своими глубоковрезывающимися заливами на большую часть года остается подо льдом, перестает быть морем. Если вы взглянете на карту Европы, на которой обозначено распределение теплоты, то заметите, что изотермы, чрезвычайно изогнутые на западе, заметно выпрямляются по направлению к юго-востоку, как только заходят в пределы нашей равнины.