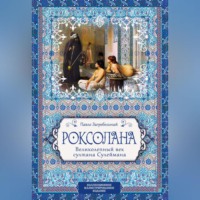Полная версия
Юрий Долгорукий
– Лепо, лепо.
– Вот уж! – не выдержал Иваница. – Мы ему про смерть в Киеве, а он нам: лепо.
Воевода велел оседлать себе коня и поехал с посланцами к мосту, где стояли два охранника, люди неопределенного возраста, зато с новыми и острыми уже с первого взгляда топорами на длинных ручках и с глазами тоже острыми, как лезвие топоров.
– В ту пятницу кто стоял? – спросил воевода Мостовик, делая ударение на слово «ту», ибо тут, видимо, запомнилась пятница убийства киевского и уже будет отличаться среди других пятниц еще довольно долго, если и не всегда, пока стоят над мостом поставленные киевским князем воеводы.
– Никита стоял, – сказал один из охранников, кивая на своего товарища, который не рвался открываться перед воеводой, еще не ведая, зачем Мостовик допытывается.
– Лепо, лепо, – пробормотал Мостовик и кивнул Дулебу на Никиту.
Дулеб спросил охранника, не мог бы он сказать, кто в тот день перешел через мост, да и не перешел, быть может, а перебежал, удирая, перепуганный или просто смущенный, подгоняемый нетерпением.
– Да ты кто? – полюбопытствовал Никита, придавая своему острому глазу выражение хитрое, вовсе не предполагавшееся в таком, казалось бы, верном воеводском слуге. Ибо не всегда, вишь, обшарпанность внешняя свидетельствует о том, что и душа у человека столь же ничтожна.
Дулеб сказал, кто они с Иваницей и какое дело возложено на них.
– На каждого, почитай, что-то возложено, – промолвил Никита, – и каждый несет свое. Ваше дело искать, а мое – стоять. А уж что там мимо меня идет, мне все равно. Лишь бы мыто платило для нашего воеводы. Да вело себя смирно. А иначе я уж покажу, что у меня есть топор…
– Так, добрый человек, – попытался как-то задобрить Никиту Дулеб, ты стоишь, и глаз у тебя зоркий. Пятницу тоже должен помнить, ибо в Киеве свершилось убийство вельми преступное, хотя, кстати, убийства все должны причисляться к преступным. Но это было слишком уж преступное. Ну так вот. Не помнишь ли – не пробегали в ту пятницу через мост два человека? Один из них должен был быть монахом, совсем еще молод, и, говорят, умен на вид, а другой – отрок из воеводской дружины, оружен, наверное, и с разбойничьими глазами, а ты ведь забияк разузнаешь с одного лишь взгляда.
– Монах? – Никита почесал за ухом. – Монахи не бегают через мост никогда. Они ездят, и не верхом, а на повозке. И все что-то везут в монастыри. Понавозили туда уже, почитай, столько, что и не разгребешь никогда. Может, и в ту пятницу проезжали через мост, разве вспомнишь такое.
– Разве не пишете, кто проехал? – спросил Дулеб.
Никита не понял, о чем его спрашивают.
– Пишете? А что это такое?
– Ну, заносить на пергамен всех, кто пройдет и проедет!
– Дак это же грамоту, почитай, надобно знать, а у нас в Мостище никто не знает. Сам воевода наш не смыслит в грамоте. А уж коли воевода чего-нибудь не знает, то как же можем знать мы!
– Лепо, лепо, – пробормотал Мостовик, который насупленно прислушивался к разговору Дулеба с Никитой.
– А зарубки? – вмешался другой охранник. – Забыл ты, Никита, про зарубки?
– Зарубки? – Дулеб повернулся к тому, потом снова – к Никите. – Что это?
– А вот.
Никита взял белый вербовый кол, прислоненный к поручням моста. Кол был испещрен глубокими зарубками, сделанными ножом.
– Это для нашего воеводы. Идет пеший по мосту – для него узенькая зарубка, для конного – широкая. А для повоза – крестик. Наш воевода должен знать, сполна ли содрали мыто с каждого. Ибо это же, почитай, глупые люди могут думать, будто мост поставлен, чтобы они переходили да переезжали через Днепр. Мост поставлен, чтобы драть мыто для нашего воеводы. Да для князя, да еще для кого-то, разве ж я знаю…
– Лепо, лепо, – подтвердил воевода.
– Вот уж! – не смолчал Иваница. – Про мыто не забываешь, а на тех, кто идет, едет, имеешь дырявую голову. Тебя же спрашивают: ехал или не ехал верхом монах в ту пятницу?
– А может, и ехал, да я забыл, – сказал Никита. – Тут такое дело, поехал – не вернется, он мне не сват, а я ему не брат.
– Так ехал или нет? – твердо спросил Дулеб.
– Сказал, забыл, – стало быть, забыл. И с разбойничьими глазами разве тут один человек за неделю проезжает! Как дружинник, так и забияка. А ежели едет их десять или двадцать, тогда десять или двадцать забияк. А только тут они смирные у нас, потому как крикнет да как взбудоражится наше Мостище да как прискочит наш воевода с отроками!..
– Лепо, лепо, – сказал воевода и уставился на Дулеба своими серо-зелеными усами, будто спрашивая без слов, чего ему еще нужно на мосту.
Возвращались ни с чем.
– Корчму увидел я там, возле моста, – вздохнул Иваница, когда они уже поднялись на склон, по которому пролегал путь на Киев, – но не станешь же обедать на глазах у этого замшелого воеводы! Не мог он угостить княжьего посланца!
Дулеб молчал. Он все больше убеждался в своей непригодности к делу, которое неведомо почему поручил ему князь Изяслав.
Обедали, как уже сказано, на дубовом пеньке хлебом, да луком, да мясом, запивали простой водой из глиняного жбана. Дулеб с Иваницей молчали, потому что ничего не выездили. Кричко тоже молчал, чувствуя, что у гостей сегодня неудачный день, а будут ли когда-нибудь более счастливые дни – тоже никто не ведает.
За обедом застала их Ойка.
Появилась она в хижине неслышно, словно дух. Минуту назад они были одни, а теперь уже и она рядом с ними, в своем странном козьем меху, длинноногая, посверкивает иконными глазами, в которых мечутся чертики, супит густые брови, сросшиеся на переносице, отчего глаза кажутся еще более глубокими, а тускло-золотистые россыпи веснушек на носу и на щеках кажутся такими неожиданными, будто кто-то только что дал их девушке поносить на короткое время.
Она поздоровалась то ли со всеми сразу, то ли только с Иваницей, по крайней мере все указывало в ней на намерение говорить лишь с ним, остальных она словно бы и не замечала, они для нее не существовали, они составляли нечто похожее на старый дубовый пень, возле которого сидели. Иваница сразу же повел себя сурово с нею, будто уже имел на нее нераздельное право. Как могла найти нас так быстро? Нашла, вот и все.
Они вышли, те двое остались за постной, бедной трапезой, Дулеб взглянул на Кричка, улыбнулся:
– Она оттуда, с княжьей Горы.
– Люди живут всюду, – пожал плечами Кричко. – Мой сын тоже там. Не говорил тебе, потому что не заходила об этом речь.
– Где же он там?
– А я не знаю. Где-то обретается. Железа ему мало. Игумены взяли. Еще малым.
Разговор прервался. Будто огонь, в который больше не подкладывают дров.
– Молоды, – снова нарушил молчание Дулеб, кивая на дверь, в которую вышли Иваница и Ойка.
– Ты тоже еще не стар.
– Не обо мне речь. У меня уже все позади.
– У каждого что-нибудь осталось позади. Один оглядывается туда, находит там силу или печаль, другой боится.
А те двое шли вдоль берега Почайны, осенняя трава была настороженно-холодная, она словно приготовилась уже укрыться под снегом, который мог выпасть в ближайшую ночь, потому что в Киеве снег падает всегда внезапно, выбирает для этого самое неожиданное время. Иваница топтал траву сапогами, оставляя два темных ручья следов позади себя; Ойка шла босая, ступала осторожно, почти не прикасаясь к траве, не было после девушки никакого следа, только ее ноги краснели от холодных прикосновений, и у Иваницы щемило сердце, будто сам он шел босиком по луговой траве, прихваченной первыми осенними заморозками.
Почему ты босая? Почему у тебя нет обуви? Босая, вот и весь сказ. Разве тебе обо всем расскажешь? Можешь не рассказывать, и так знаю, что ты несчастна, хотел бы тебе помочь, все бы отдал ради того, чтобы ты стала счастливой.
Она расстегнула свой козий мех, она улыбалась уже не только глазами и губами, а, казалось, каждой своей золотистой веснушкой.
Что ты можешь? Никто ничего не может. Боярин Войтишич и тот не может. Князь попытался было прийти на помощь, где он теперь? В могиле. И вы со своим костоправом ищете следа и не можете на него напасть. Он не костоправ, он мудрый человек, творит чудеса. Чудеса – это когда воскрешают мертвых. А никто ведь не сумел еще никого воскресить, и вы не сделаете этого. И отца моего никто не сделает зрячим, потому что глаза ему выжгли ромеи. И все бегут от моего отца, мать бежала, когда меня родила; теперь вот и Кузьма бежал, одна я осталась. Не могу покинуть отца, потому что ему нет жизни без меня. Но ведь он издевается над тобой. Разве можно бросать копье в родное дитя? Должен бросать, потому что за это Войтишич кормит его. Бросал на мать, она вот так кричала, как теперь должна кричать я; вонзалось копье в доски перед ее лицом, проламывалось железо сквозь щели, чуть не задевая материнских глаз; я должна была ойкать за досками, едва встав на ноги, – так и прозвали меня Ойкой за это. Ненавижу отца, ненавижу воеводу Войтишича, возненавидела весь мир, а куда мне податься? Отец мой родной, бросить его не могу. Князь Игорь заманивал к себе, бегала дважды, думала – святой, а он – никчемный развратник. И все равно мне жаль его. Брат не мог простить князю то, что он ворвался в нашу семью, а я не прощу брату то, что он… А ты веришь, что твой брат убил князя? Верю? Разве я говорила, что верю? Могу знать или не знать. Уже знаю, а узнаю еще больше. Тогда помогу тебе. Ведь ты хочешь от меня помощи? Может, и еще чего-нибудь хочу, сказал Иваница и попытался положить руку на грудь. Но рука его была отброшена резким и сильным ударом, послышался короткий смех, – казалось, смеялось само злорадство; такого с Иваницей еще никогда не случалось в его многочисленных приключениях с девчатами, хотя, по правде говоря, с киевлянками он никогда не имел дела, поэтому и не очень удивился, потому что, быть может, они такие же необычные, как город, в котором живут.
– Возвернешься в Киев, тогда, может, и уступлю тебе, – раздалось откуда-то из зарослей травы или со стороны Почайны, потому что, как заметил Иваница, Ойка не раскрывала уст.
– Возвернусь? Да я еще здесь и не имею намерения выезжать отсюда до времени…
– Уедешь, потому как должен гнаться за убийцами.
– А куда?
– Сказано будет.
– Да и кто ведает, что они убежали? Может, сидят в Киеве, прячутся.
– В Киеве не спрячешься, вы со своим лекарем спрятались?
– А мы и не пробовали. Выбрали жилище, открытое всем ветрам.
– Жилище – да. А в монастыре? Нашли вас и там.
– Ты хотела меня убить.
– Дурень! Кабы хотела – давно бы убила.
– А Дулеба? Метал же Емец копье.
– Малость попугал. А то оба вы больно уж неповоротливы.
– Хочешь видеть, какой я быстрый?
– Уже увидела. Стой тут, дальше пойду одна. Приду к вам еще.
Она исчезла так же незаметно, как и появилась.
– Вот уж! – вздохнул Иваница.
А ночью Ойка прибежала снова. Она, видимо, обладала необъяснимым чутьем, потому что в темноте безошибочно узнала среди трех спящих в хижине Кричка именно Иваницу, потихоньку толкнула его, прошептала: «Выходи-ка со мною». Он проснулся мигом, решил, что это она пришла только к нему, потянулся рукой, чтобы схватить ее и, быть может, задержать здесь возле себя, потому что очень приятно ему было лежать под теплым мехом, а еще если бы там была девушка, то и вовсе было бы здорово! Однако Ойка и на этот раз оттолкнула его руку. «Выходи!»
Во дворе, ежась от холода, Иваница увидел рядом с Ойкой какого-то человека. В темноте он показался еще более хлипким и невзрачным, чем хитрый Никита, с которым они вели беседу на мосту.
– Ежели хотела, чтобы я тебя поцеловал, могла бы обойтись и без него, – недовольным тоном произнес Иваница.
– Будешь целовать, когда возвернешься в Киев, говорила уже тебе.
– Зачем возвращаться? Я ведь здесь.
– Был здесь, а теперь не будешь.
– Когда же должен ехать?
– А вот человек тебе скажет.
– Ежели не соврет, так скажет.
Человек, несмотря на свой убогий вид, тотчас же обиделся:
– А зачем мне врать?! Меня просили, я передал, а там пусть хоть земля провалится.
– Кто же тебя просил?
– Брат вот ее, Кузьма, брат вот этой девки, стало быть.
– Где ты его встретил?
– Там, где люди бродят. Подальше от князей да от бояр. Бежал он с монахом остроязыким, направлялись в Залесскую сторону, к Юрию Долгой Руке, в Суздаль, стало быть.
– Откуда ведомо тебе, что в Суздаль?
– А говорили. За язык не тянул. Сами сказали. Кузьма, стало быть, и сказал. Не сказал, стало быть, а попросил. Ты, говорит мне, все едино в Киев идешь, вот и найди в Киеве воеводу Войтишича, его там каждая собака знает, а у того Войтишича на дворе, стало быть, отец мой, то есть Кузьмин отец, Емец, дружинник есть слепой. Найдешь, говорит, и передай ему, Кузьма, мол, сын, просит прощения, искать его не нужно, потому как побежал к князю Юрию Суздальскому, а даст бог, то когда-нибудь возвернется, мол, в Киев, стало быть, со славой.
– Ты знал Кузьму раньше, что ли?
– Откуда бы мог знать? И в Киеве отродясь не был. Встретились, человек и попросил. А меня ежели кто попросит, то я… Мне что?
– И это он так вот сгоряча и выложил тебе все, как на исповеди: и кто такой, и куда путь держит? А теперь ты думаешь, тебе поверят?
– Стало быть, ты еще и не веришь? Ну и не нужно. Разве я платы от тебя хочу? Попросила девка, пришел, сказал тебе, хотя и тебя, стало быть, впервой вижу и не знаю, что ты и кто еси. Мое дело, стало быть, маленькое…
Человек повернулся и молча пошел своей дорогой.
– Эй, – тихонько позвал его Иваница, – куда же ты? Постой, мне надобно еще спросить.
– Наспрашивался уже вдоволь, – донеслось из темноты.
Человек исчез, будто его и не было никогда, и Иваница не поверил бы в это явление, если бы не стояла рядом с ним Ойка в белом своем козьем меху, а еще хотелось верить не только в самый разговор, но и в истинность слов человека, больно уж несчастным был он на вид. А таким Иваница верил всегда.
– Так мы поедем, – сказал Иваница девушке. – Может, и ты с нами? Если найдем твоего брата, что нам с ним делать?
– Не найдешь ты его.
– Вот уж! Почему же не найду?
– Спишь много. Когда ни приду – спишь.
– Вот уж! Я тебе покажу сейчас, что не сплю!
Он снова хотел было поймать ее за руку, но она увернулась, отбежала подальше, сказала строго:
– Поезжай. А захочешь возвернуться со своим лекарем, – буду ждать.
– Хоть прикоснуться к тебе, – заканючил Иваница.
– Тогда и прикоснешься. Князьям не позволяла, а уж тебе…
Исчезла – ни слуху ни духу. Иваница вздохнул, еще немного постоял, ибо не верил, что так бессмысленно закончится его приключение с этой норовистой девушкой, но не дождался ничего и пошел будить Дулеба.
Дулеб, услышав о новости, тотчас же велел седлать коней.
– Возвращаемся к князю Изяславу без промедления.
Иваница чесал затылок в темноте, кряхтел.
– Не очень мне охота выбираться из Киева, Дулеб…
– А что мы имеем здесь несделанное?
– Ты, может, и не имеешь, а я имею. Девку оставляю такую, что грех даже сказать! Тебе-то все равно, ты к девчатам равнодушен, а у меня душа разболелась. Нигде еще такого не было.
– Болела и у меня, – вздохнул Дулеб. – Не раз болела, а приходилось все бросать и так… Да и не так, а… Бежать пришлось, Иваница. Не знаешь ты об этом, и никто не знает…
– Вот уж! – удивился Иваница и пошел готовить коней.
Кричко встал, чтобы проводить гостей. Не спросил, почему они так торопятся, не приглашал дожидаться утра. Ежели нужно людям, значит, нужно.
– Будете в Киеве, – не проезжайте мимо, – сказал на прощание. – А что возвернетесь сюда – знаю наверняка. Потому что кто единожды побывает в этом городе, не забудет его до самой смерти. Вы же молоды, до смерти далеко, люди вольные, сел на коня – да и снова в этом благословенном городе.
– Приедем, – обещал Дулеб, – не раз еще приедем, добрый человек. Вот Иваница и сейчас уже готов расседлать коня…
– Слыхал, слыхал, как он шептался здесь с дивчиной, да и у тебя, лекарь, все впереди.
– Трудно о том судить, есть ли у человека что-нибудь впереди, или же все у него осталось позади, – сказал Дулеб, отправляясь в путь, и была в его голосе такая нескрываемая грусть, что ехали они с Иваницей молча и вдоль Почайны, и до самого моста, и через днепровский мост, и дальше, по княжеской дороге под кронами дубов, и все это время думалось княжьему лекарю о прошлом, скрытом от всех глаз расстоянием и временем, скрытом и затаенном от всех, да только не от самого себя, не от собственной памяти.
Легко было проследить направление воспоминаний Иваницы. Они до сих пор блуждали по зеленому почайнинскому лугу, устремлялись за бесследно исчезнувшей девушкой в белом козьем меху. Зато Дулеб устремился памятью в такие немыслимые дали, что об этом придется повести речь отдельно, не боясь опасности затянуть и без того длинное наше повествование.
Итак, повествование переходит на Дулеба.
Начать нужно с того, что жил человек по имени Кузьма, прозванный Дулебом. И не из-за отца, и даже не из-за деда. Быть может, только пращуры его происходили из дулебов приднестровских, но где эти дулебы – трудно сказать, потому что исчезли и предания о них, а известно ведь, как быстро исчезает все, что не оставляет следа в людских душах. Ну так вот, Кузьма получил свое прозвище не потому, что остался в нем корень дулебовский, а, наверное, из-за своего родства с тем давно исчезнувшим племенем, родство же это заключалось в загадочности. Потому что когда пошел он по людям и начал выказывать свое лекарское умение, то граничило оно с колдовством и знахарством; человек этот не мог восприниматься наравне с другими, его хотелось вместить во времена давно прошедшие, среди людей, самое наименование которых отдает чем-то непостижимым.
Для самого же Дулеба его умение объяснялось вельми просто. Он перенял его от матери и от бабки, а тем досталось в наследство от их матерей и бабушек; прекрасное умение лечить людей переходило в их роду от одной женщины к другой, и длилось так много поколений; быть может, продолжался ряд этот и дальше, в бесконечность, но смерть маленькой дочери, а потом рождение мальчика неожиданно прервали бесконечность женской линии; возникла угроза исчезновения их умения. Допустить этого никто не мог, поэтому маленького Кузьму начали обучать тому, к чему способны были среди них лишь женщины с их чуткостью и утонченностью.
Собственно, если подумать, то их лекарское умение относилось к простейшим. Тут все зависело не столько от трав, или там солей, или каких-нибудь чудес, как, например, сушеные жабьи лапки, толченый панцирь черепахи или пояс из турьей шкуры. Все делали руки, точнее, пальцы. Известно, что кончики пальцев, быть может, самые чуткие места в человеческом теле, а женщины из рода Кузьмы обладали пальцами сверхчувствительными, и природа подарила этим женщинам пальцы особого строения, с какими-то словно бы подушечками на кончиках, и вот этими подушечками они растирали, разминали, поглаживали больные места у человека, иногда просто прикасались к больному месту или к тому месту, откуда хворость расходилась по всему телу, – и пропадала боль, исчезала слабость, отступала немощь, все «будто рукой снимало», да и в самом деле рукой. Маленького Кузьму научили всему: и как с первого взгляда определять характер человеческого недуга, и как улавливать пальцами хворости и выбрасывать их из человеческого тела, и как сочетать сверхъестественную чуткость пальцев с силой и выдержкой, потому что у людей неодинаковое тело: есть мягкое, как воск, есть нежно-шелковистое, есть такое, будто сырое тесто, а есть прочное, затвердевшее, будто корень или камень. Иногда на теле создаются словно бы узлы из веревок, которые лучше и не разминать, а просто разрубать, отрезать, вырывать, однако нельзя нарушать целостность человеческого тела, потому что оно дается один лишь раз и создано в прекрасной замкнутости и совершенстве, от малейшей же раны становится похожим на дуплистые березы, которые весной горько плачут своим соком, или на сосну с жестокими надрезами на стволах, из которых каплет живица, или на липу, на которую женщины вешают все свои проклятия в адрес мужчин, отчего на этом дереве так много неприятных наростов.
Дулеб уже обладал лекарской славой к тому времени, когда в землях, где он странствовал среди людей, переходя от одного больного к другому, распространился слух о хворостях князя Володаря из Перемышля.
Дулеб добрался до самого Перемышля, и слава, опередив его, залетела на княжеский двор, провела молодого лекаря к самому князю Володарю, правнуку Ярослава Мудрого, сыну отважного Ростислава Владимировича, который воевал Тмутаракань у ромеев, но был отравлен греческим катепаном, выпив вино из чаши, из которой перед ним отпил катепан, незаметно впустив потом в это вино яд из-под ногтя.
Володарь, человек уже немолодой – ему было далеко за пятьдесят лет, страдал приступами сердечной слабости, которым предшествовал тяжкий гнев; с течением времени княжеское раздражение не затихало, а еще больше усиливалось, соответственно этому усиливались и приступы сердечные, так что порой князь впадал в беспамятство. Не помогало ничто: ни травы, ни заморские лекари, ни молитвы, ни бормотание знахарей. Немощь князя все объясняли его тяжелой жизнью, но от этого Володарю не становилось легче. О своей трудной жизни он знал и без напоминаний. Помнил все. И как остались маленькими сиротами после отравления отца в далекой Тмутаракани Рюрик, Володарь и Василько. И как жили во Владимире на хлебах у князя Ярополка Изяславовича, не имея ни волостей, ни даже слуги, чтобы оседлал коня. И как получили от Всеволода Киевского червенские города, но вынуждены были биться за них, то со своими князьями, то с ляшскими. И как Святополк Киевский ослепил Володарева брата Василька, испугавшись усиления двух Ростиславовичей. Володарь и слепой Василько не покорились и два десятка лет дрались за свои земли с сыном Святополка Ярославом, который мутил воду во Владимире и других волостях, то удирая к польскому князю Болеславу Кривоустому, за которым была сестра его Збислава, то раскаиваясь перед Мономахом, то снова нарушая клятву и начиная раздоры.
Дулеба в княжескую гридницу сопровождали предупредительные служки, которые по дороге нашептывали юному лекарю про тяжелый нрав Володаря и еще о трудной жизни его, которая, очевидно, и послужила причиной такого крутого нрава. Но хотя Дулеб не мог похвалиться зрелостью и опытностью в делах житейских, он обладал привычкой пропускать слова мимо ушей, в особенности же когда речь шла про хворости, потому что в этом деле верил только собственным глазам и чуткости пальцев.
Поэтому когда он предстал перед князем и увидел высокого, одутловатого человека, со светлыми, словно бы даже золотистыми волосами, нездоровой краснотой на белом лице, которую не могла скрыть даже пышная густая борода, когда, взглянув на руки Володаря, сильные, короткопалые, неспокойные, готовые в любой миг схватиться за меч или вцепиться во вражескую глотку, когда услышал тяжелую одышку князя, то сразу понял, где гнездятся начала хворостей, донимающих больного.
– Разденься, княже, до пояса, – велел юноша Володарю.
Вельможи, окружавшие князя, разинули рты от такой дерзости, служки испуганно попятились, чтобы исчезнуть бесследно, как только взорвется княжеский гнев, а что он взорвется, в этом никто не имел ни малейшего сомнения.
Однако произошло иначе. Князь почти весело проследил за тем, как исчезают служки, потом указал на дверь и своим вельможам.
– Вон! – коротко велел князь. Когда же вельможи замешкались, делая вид, что это «вон!» относится к кому-то другому, Володарь рявкнул на них: – Кому сказано? Вон отсюда!
Оставьте меня с лекарем с глазу на глаз!
А когда все вышли, Володарь начал срывать с себя одеяние, остался в одной сорочке, спросил мирно:
– И сорочку?
– И сорочку.
– Молод, а князя опозорить хотел? Раздевать при всех. Где такому научился?
– А нигде.
Князь снял и сорочку. Стоял голый, тело у него было белое, пухлое, безволосое, когда-то, наверное, оно было красиво своей стройностью, теперь отяжелело от жира, хотя кое-где бугрились под слоями жира тугие мышцы. Дулеб прошелся кончиками пальцев вокруг княжеской груди, затем сказал:
– Лечь бы тебе, княже, чтобы я малость размял твою грудь.
– И поможет? – не поверил Володарь.
– Увидим.
Недолго и держал князя на постели, но вогнал его в пот, да и сам промок насквозь, потому что трудно было орудовать пальцами в залежах жира, отыскивая под ними еле теплящиеся узелки мышц, пробуждая уснувшие давно силы в груди этого старого, подкошенного непонятными для Дулеба страстями человека. Но вот задвигались мышцы, ожили связки между ними, заиграла вся грудная клетка, будто ромейский орган многоголосый, вялые удары сердца княжеского сменились сильными толчками, кровь по жилам запульсировала веселее, сильнее, будто в далекой молодости, Володарю стало легче, свободнее дышать, он дышал с наслаждением, но еще не верил, боялся поверить в такое дивное перерождение свое, спросил Дулеба: