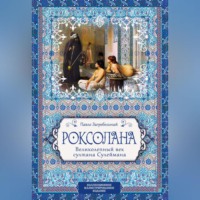Полная версия
Юрий Долгорукий
А уже Иваница от щедрости своей делился знаниями с Дулебом, каждый раз вызывая у того удивление, хотя казалось, не должен был бы удивляться этот человек, который еще издалека, лишь увидев кого-нибудь, мог точно сказать, здоров он или болен, и даже мог довольно точно определить недуг, которым страдал немощный. Так и получалось: один из них ведал обо всем, что происходит вокруг людей, а другой как бы заглядывал в их души, видел их нутро. Радостного в этом, наверное, было мало, но у каждого на земле есть свое призвание, их призвание было именно таким.
Следует отметить еще и то, что Иваница никогда не проявлял интереса к знаниям Дулеба, потому что считал людскую хворь недостойной своего внимания, зато щедро делился со своим старшим товарищем всем добытым, и не так, видимо, из осознания важности своих сведений, сколько от врожденной доброты.
Так оно получилось и в Чернигове, куда великий князь Изяслав посылал Дулеба не для выведываний, а только по лекарским делам.
За год до этого Изяслав захватил Киевский стол раньше своих стрыев Вячеслава и Юрия Мономаховичей, устранив Игоря Ольговича, который был князем киевским каких-нибудь две недели после смерти брата своего Всеволода Ольговича. С изгнанием Игоря наступил конец господству Ольговичей в Киеве, киевляне вельми радовались возвращению (не без их помощи) Мономаховичей; брат Игоря Святослав Ольгович ведал тоже весьма хорошо, что не вернуть уже для их рода Киевский стол, но боль за брата, которого Изяслав сначала посадил в поруб, а потом послал в монастырь, и стремление хоть как-нибудь донять Изяслава бросили Святослава в сообщники суздальского князя Юрия, сына Мономаха. Тот чувствовал себя тоже обиженным, потому что его племянник Изяслав, пренебрегая рядом старшинства, забыв и о старшем своем дяде Вячеславе, и о нем, могучем и вездесущем (за это и прозван он был Долгоруким) Юрии, захватил стол Киевский, так, словно это было какое-то заброшенное ловище, или купеческий обоз, или красна девица, на которую, имеет право тот, кто первым доскочит.
Так и прошел год княжения Изяслава в Киеве в непрестанных стычках, походах, в напряжении, неприятностях и страхах. Но киевляне стояли за Изяслава твердо, и он сумел загнать своего врага Святослава Ольговича чуть ли не к его высокому покровителю Юрию Суздальскому. Да и не только это, а еще оторвал от Святослава его сообщников – черниговских князей Владимира и Изяслава Давыдовичей и Святослава Всеволодовича (племянника Святослава Ольговича). Дело дошло до того, что черниговские князья начали звать к себе Изяслава: «Брат наш! Занял Святослав Ольгович нашу волость во вятичах, давай пойдем на него. Когда же прогоним его, пойдем и на Дюргия в Суздаль и либо мир с ним сотворим, либо же биться будем».
Киевляне отступились от своего князя в этом деле. «Княже, – сказали они, – не ходи на стрыя своего, лучше уладь с ним дело. Ольговичам не верь и в путь с ними не отправляйся». Но не было единодушия среди несогласных. Изяслав видел это ясно. Поэтому уперся на своем: «Черниговские князья целовали мне крест, думу с ними думал, и уже не могу отложить этот поход. Кто же захочет со мной, догоняйте!» На что киевляне опять-таки сказали ему: «Княже, ты на нас не гневайся, мы не можем на Мономахово племя поднять руку». Как всегда бывает, одни говорили, другие молчали. Из этих молчунов Изяслав набрал себе воинов и без промедления отправился в путь; чтобы пополнить свое войско, он пошел кружной дорогой на Альту, на Нежатин, на Роситину. Там встретил его гонец из Чернигова от Изяслава Давыдовича. Давыдович передавал, что вряд ли дождется Изяслава с полками, ибо немощен сердцем.
– Все Изяславы немощны сердцем, – рассмеялся киевский князь и послал вперед себя Дулеба, чтобы тот помог черниговскому Изяславу, хотя все эти месяцы, пока Дулеб был при нем, князь не очень охотно отпускал его от себя, поскольку и сам часто болел сердцем, страдал от колик в животе.
Там и отличился Иваница так, что Дулеб из обычного княжьего лекаря сразу вырос в довереннейшее лицо.
Пока Дулеб втирал Давыдовичу в мохнатую грудь у сердца травяные настои, Иваница, по своему обыкновению, где-нибудь лениво прогуливался или же просто лежал в тени, а возможно, и на Десну купаться ходил, хотя черниговцы в такое время, кажется, уже и не купались, считая воду слишком холодной после того, как погасли над нею купальские огни. Как бы там ни было, поздней ночью Иваница растолкал сонного Дулеба и чуточку испуганно, что с ним случалось крайне редко, сказал: «Князя нашего заманивают в Чернигов, чтобы убить». – «Какого князя?» – не понял спросонья Дулеб. «Ну, нашего, Изяслава». Дулеб никак не мог проснуться окончательно. «Изяслава Давыдовича?» – спросил он. «Да нет, нашего, киевского. Эти, в Чернигове, целовали крест Святославу Ольговичу, что убьют Изяслава, взяв его коварством и хитростью. Все и целовали: оба Давыдовича и Святослав Всеволодович, потому как это родной племянник Святослава». Объяснение Иваницы было столь исчерпывающим, что переспрашивать не годилось. Дулеб лишь полюбопытствовал: «Откуда ведаешь сие?» – хотя хорошо знал, что Иваница этого не скажет, как не говорил никогда.
На рассвете они выехали из Чернигова, прискакали к Изяславу, и тут Дулеб передал князю то, что услышал от Иваницы. Изяслав не поверил, да и кто бы поверил! Спросил у Дулеба, как он узнал, но тот ничего сказать не мог, – не ссылаться же на Иваницу: Иваница для князя – ничто, а для Дулеба – все.
– Вот знаю, да и все, а ты, княже, думай, – сказал Дулеб.
Изяслав тотчас же послал к черниговским князьям воеводу с вопросом, не замышляли ли они чего-нибудь недоброго. Те ответили уклончиво. Тогда еще один посол поехал в Чернигов и уже прямо сказал князьям в глаза об их измене. И еще спросил посол от имени князя Изяслава: так это или не так? Те долго переглядывались между собой, потом велели послу выйти; посоветовавшись, снова позвали его и велели передать Изяславу следующее: «Брат, целовали крест Святославу Ольговичу, ибо жаль нам, что держишь брата нашего Игоря, хотя он уже не князь, а монах и схимник. Отпусти брата нашего, тогда с тобой пойдем. Разве любо тебе было бы, если б твоего брата держали?»
Тогда отослал им Изяслав крестные их грамоты, объявляя этим войну, а на подмогу себе позвал брата Ростислава из Смоленска и брата Владимира с киевлянами.
Вот тогда и стряслось неожиданное. Киевляне, услышав от Изяславова посла об измене черниговских князей, в приливе дикой ярости бросились в монастырь святого Феодора, вытащили оттуда князя Игоря и убили его.
Когда Изяслав услышал об убийстве, заплакал и сказал дружине: «Теперь как мне спастись от людского наговора? Будут говорить, что это я убил Игоря, а бог свидетель, что я ни сам не убивал, ни наущал убивать». Дружина успокоила князя: «Бог, княже, и все люди ведают, что не ты убил Игоря, а его братья. Разве же не целовали они тебе крест, а потом хотели тебя тоже убить?»
Но дружина на то и есть, чтобы поддерживать и утешать своего князя. А люди? Что они скажут? Если и не скажут – подумают. Как ни бодрись, а тень от убийства Игоря падала на Изяслава, он понял это сразу и возжелал отвратить от себя все подозрения. А как ты их отвратишь? Единственный путь – установить, кто убил, как это произошло, кто скрывался за спинами убийц.
– Начал ты сие дело тяжкое, ты же и заканчивай. Поезжай тайком в Киев и узнай про убийство Игоря. Лишь для меня, ни для кого больше. Дам тебе гривну княжескую и печать. Лазарю, тысяцкому, напишу… Ежели ты не сделаешь этого, никто мне не поможет…
Князь не спрашивал согласия – посылал, и все. Князья всегда так поступают. Правда, Дулеб попытался было напомнить Изяславу о своем лекарстве, однако князь забыл про болезни: хлопоты душевные донимали его намного сильнее, он не стал зря тратить слов, махнул рукой.
– Встряли мы в темное дело, Иваница, – сказал Дулеб, когда они уже ехали в Киев.
– А, выпутаемся, – беззаботно улыбнулся Иваница.
– Думаешь, легко нам будет?
– А так, как всегда.
Дулеб любил Иваницу за уверенность во всем. Иванице же Дулеб нравился тем, что никогда не приставал с назойливыми расспросами. Мог удивиться, когда что-нибудь узнавал от Иваницы, но не больше. Зато никогда не приставал с ножом к горлу: откуда, да как, да почему, да за какие деньги узнал?
Ну, так вот, въехали они в Киев под вечер, сразу укрылись в монастыре, никто толком и не знал об их приезде. Если какая-нибудь киевская молодичка и увидела Иваницу и польстилась на его улыбку, то, хоть убей, не могла она за такое короткое время допытаться, где, в каком дворе, за какими воротами укрылся на ночлег этот молодец. Стало быть, по всему можно было судить, что по крайней мере первую ночь Иваница проспит в Киеве свободно, не потревоженный теми, которые сладко тревожили его всюду.
Но вот среди ночи явилось видение. Коснулось его плеча, положило себе пальчик на уста, призывая молчать, кивнуло, чтобы шел следом, и повело из кельи через монастырский двор, мимо церкви к глухой стене, где росли высокие деревья. В белой сорочке, с белыми волосами, белолицее, белорукое, несло свечу, прикрывая слабый огонек маленькой ладошкой, и ладошка светилась не розовым, как у всех людей, а тоже словно бы белым.
Наваждение, да и только.
Возле стены оно вознеслось вверх, странным образом как-то зацепилось за темную ветку, не выпуская свечи, перепорхнуло через стену, позвало Иваницу уже оттуда голосом таким нежным, что у него даже сердце замерло:
– Иди за мной.
Он прыгнул тяжело раз и еще раз, пока ухватился за ветку, долго карабкался через стену, прыгнул в темноту на противоположную сторону, встал, оглянулся вокруг. Нигде никого.
– Эй! – тихонько позвал Иваница. – Где ты?
Никто не откликнулся.
Он пометался около стены, торопливо прошелся по улице, потом по другой. Никого. Наваждение!
Должен был бы перекреститься, но только сплюнул. Перелез через стену, медленно начал пробираться к каменному скиту, все еще не теряя надежды, что снова появится эта неправдоподобно белая девчушка с голосом, от которого замирает сердце.
Не появилась.
Возле скита его ждал Дулеб.
– Где ты был?
– Да… нигде.
– Гонялся за кем-нибудь?
– За кем бы мне гоняться?
– А вот.
Дулеб взял его за руку и дал пощупать загнанное в дверь копье.
– Вот уж! – воскликнул Иваница.
Всегда нужно иметь свидетелей. Когда не имеешь – позови. Но на такое дело ни один из них не мог позвать никого. Не умели даже сказать друг другу, что же такое с ними случилось. Запутанное было дело и темное. Дулеб почувствовал враждебность, нависшую над ними в Киеве, как только въехали они в ворота великого города. Иваница же, по своему обыкновению, лишь удивился этому происшествию. Когда же Дулеб осторожно высказал опасения относительно успеха их тайного посольства, младший его побратим беззаботно произнес свое излюбленное, исчерпывающее: «Вот уж!»
Была пятница, как и в тот день, когда убили Игоря. Хотя сентябрь шел на спад, солнце жгло немилосердно, будто навеки утратило свою ласковость. Правда, замечено было, что и в Киеве солнце ярится подчас, и ярость солнца приходится на август, начиная с первых его дней. В августе умер Всеволод, передав стол брату своему Игорю. В том же самом августе прогнал из Киева неудачника Игоря проворный Изяслав, опередив всех Мономаховичей, в этом году в августе отправился Изяслав на соединение с черниговскими князьями, а получилось из этого то, ради чего Дулеб должен теперь сидеть с Иваницей в Киеве и доискиваться причин ярости уже и не солнца, а людской. Что, как известно, никогда не было делом простым и легким.
Дулеб встревожен был не столько непонятным ночным происшествием и не столько откровенной неприязнью игумена Анании которую почувствовал с первой встречи, сколько тем, что дали им уже первые дни расспросов. Никто в Киеве, казалось, не скрывал того, что случилось, все охотно выкладывали все до малейших подробностей о смерти Игоря, рассказывали так складно и умело, будто кто-то заранее, еще при живом Игоре, сложил легенду о его убийстве, из которой можно было узнать о чем угодно, кроме главного: кто виновник!
Виновных не было… Кто первым крикнул о смерти князя, кто бежал к монастырю, кто бил Игоря, кто убивал? Об этом не было речи. Будто бы кричал весь Киев, будто в монастырь бежали все киевляне и князя убивали тоже все.
Дулеб, не имея опыта в таком тяжком и запутанном деле, вознамерился для начала записать все известное.
Достал из переметных сум пергамен и приспособления для письма, сел в своем каменном убежище и, отпустив Иваницу на вольную волю в надежде, что тому все-таки откроется что-то, до поры до времени скрытое от общего внимания, попытался расставить события в том порядке, как должны они были произойти неделю назад, в пятницу девятнадцатого сентября, лета от сотворения мира шесть тысяч шестьсот пятьдесят пятого: две шестерки и две пятерки, совпадение чисел, видимо, весьма нежелательное и зловещее, как показали события[1].
Писал, сам не зная зачем: то ли себе на память, то ли для того, чтобы преподнести сей пергамен князю Изяславу, ибо виновных должен искать тот, кто может карать.
Дулеб писал: «По всему видно, что август для Киева месяц вельми угрожающий, из-за чего следует всегда быть осмотрительным, намереваясь начинать важные дела именно в этом месяце».
Развивать эту мысль вряд ли и нужно было, ибо и так здесь чувствовался намек на то, что, быть может, и Изяславу в прошлом году в августе не следовало захватывать Киевский стол, пренебрегать правом старших Мономаховичей – Вячеслава и Юрия.
Дулеб писал об августе нынешнего года, о походе Изяслава, о том, что с ним самим случилось в Чернигове и об измене тамошних князей, и о том, как был встревожен Изяслав и как решил немедленно послать в Киев послов, чтобы они обо всем рассказали киевлянам.
Послы великого князя Изяслава, дружинники Добринко и Радило, прибыли в Киев на Мстиславов двор и передали шестнадцатилетнему князю Владимиру, жившему там на отцовском дворе с матерью, слова старшего брата: «Брат мой, поезжай к митрополиту, созови киевлян, и пускай эти мужи расскажут про измену черниговских князей».
Владимир, дабы не мешкать, велел своему тысяцкому Рагуйле и главному киевскому тысяцкому Лазарю Саковскому собирать киевлян к Софии, а сам сел на коня и поехал к митрополиту Клименту Смолятичу.
Еще никто ничего и не знал толком, а уже какой-то слух просочился между людьми, поэтому собралось у Софии огромное множество киевлян, сбились в такой давке, что ни увидеть, ни услышать, ни дохнуть даже, и вот тут кто-то смышленый крикнул передним: «А ну-ка сядьте!» – и уже затем сели и стоявшие за ними, чтобы всем быть на одинаковом расстоянии от неба, так что на ногах остались только митрополит, да князь молодой, да тысяцкие, да посланцы великого князя Изяслава, да дружина конная числом до ста, а то и больше.
Когда же услышали киевляне о том, как плели сеть князья черниговские, чтобы поймать в нее Изяслава, то мигом вскочили на ноги все до единого и поднялся такой крик, что казалось, даже София всколыхнулась, и уже ни Добринко, ни Радило не могли перекричать киевлян, даже митрополит долго не мог унять толпу. Крик все усиливался, но, как всегда бывает при таком большом скоплении людей, слов никто не мог понять, да никто и не заботился о том, чтобы его слова были услышаны, каждый был занят прежде всего тем, чтобы выразить свое возмущение, потому что после этого у человека как-то отлегает от сердца.
Все же Добринко улучил миг тишины и сумел протолкнуть в этот короткий миг молчания слезный призыв великого князя Изяслава, который знал, что лучше всего можно взять за душу слезой и лестью:
«О излюбленные мои киевляне! Доспевайте, кто на конях, кто по воде в лодьях на врагов моих и ваших: ибо не меня одного хотели убить эти недруги, но и вас искоренить!»
Слова посланца Изяслава о том, что великий князь призывает киевлян хоть теперь пойти дружно с ним, уже не против Святослава Ольговича, а супротив всего рода Ольговичей и Давыдовичей, киевляне восприняли как бы спокойно, уже по обычаю они должны были бы умолкнуть на какое-то время, чтобы обдумать все как следует, потому что важные дела всегда требуют обдумывания, но на площади возле Софии царило такое невероятное столпотворение, что мутилось в головах даже у самых рассудительных людей, а тут еще прозвучал чей-то задиристый голос. Голос был грубый и довольно громкий, и его услышали все.
Дулеб писал: «Люд, собранный в количестве чрезмерном, неукротим, как море, рокочущее прибоем даже в величайшей тишине».
Он как бы сам присутствовал там, на площади возле Софии, в той тесноте его самого как бы бросало туда и сюда могучим прибоем толпы, и он был не властен над собой, потому что овладела им толпа.
Дулеб писал: «Что есть толпа? Это тихая гладь глубоководья, которая от малейшего дуновения ветра приходит в движение во всей своей толще. Это огонь, скрытый до поры до времени, готовый взорваться пламенем от тончайшей сухой лучины».
Для киевского люда сухой лучиной стал этот грубый голос неизвестного человека. Человек прогремел над всей толпой:
– Князь призывает нас в Чернигов, а про то и забыл, что тут самый лютый враг сидит и князя нашего и наш – Игорь Ольгович! Убить его, а уже потом – биться за своего князя.
Слова были такими неожиданными, что все оцепенели вдруг, лишь митрополит, как муж опытнейший, мгновенно поднял руку, как бы угрожая, и изрек осуждающе:
– Греховны слова и помысел греховный!
Но этим он лишь придал силу скрытому огню, разбудил злую страсть в темных душах, которых нашлось немало. То с одного, то с другого конца раздались возгласы:
– Жаждем убить Ольговича!
– Жаждем!
– Убить врага сего, а уж потом!
Выкрики охватили площадь – так неумолимый враг старается поджечь с четырех сторон город, которым жаждет завладеть.
Князь Владимир юношеским голосом своим перекрыл темных крикунов, над площадью разнесся его призыв:
– Мой брат не повелевал убийства! Игоря поблюдет стража, а мы пойдем к брату, как он велит.
– Мы пойдем, а сей выйдет и возвеличится над Киевом! – спокойно молвил тот же самый грубый голос, который первым бросил в толпу слова поощрения к убийству.
– Ведаем, что брат твой не велел сие творить, – закричали Владимиру со всех сторон. – А мы вот хотим убить Игоря! Хотим!
– Ибо не удастся покончить добром с сим племенем ни вам, ни нам!
– Опомнитесь! – поднял вверх крест митрополит.
– Не смейте! – в один голос крикнули тысяцкие Лазарь и Рагуйло.
– Не чините зла! Сотворив это, гнев божий на себя накличете, вражда с братьями его и с племенем его вовеки не уймется! – то ли повелевал, то ли просил митрополит Климент. И был это не грек, как заведено было издавна, еще со времен великого князя Владимира, – князь Изяслав, вопреки настояниям ромейского патриарха, возвел в митрополиты своего, русского, монаха Зарубинецкого монастыря многоученого Клима Смолятича. И киевлянам приличествовало бы прислушаться к голосу своего, родного, а не привезенного из-за моря архипастыря душ и сердец. Но не случилось этого.
Дулеб писал: «Уж когда толпа загорится страстью, пускай и пагубной, то не подвластной она становится ни уговорам, ни повелениям, а на каждое рассудительное слово родит десяток слов собственных, и чем бессмысленнее и яростнее они будут, тем убедительнее будут казаться для помутившихся душ и ослепленных сердец».
Так и тут быстро нашелся среди киевлян какой-то то ли вельми старый человек, то ли просто дошлый знаток деяний киевских, ибо сразу же и ответил митрополиту, а голос прозвучал так, что сразу не поймешь, откуда он прозвучал:
– Величайшее зло – верить заточенным! Разве же не было в Киеве, когда изгнали Изяслава Ярославича за неправды восемьдесят лет назад? Вызволили тогда из поруба Всеслава Полоцкого, поставили над собой князем, а он испугался Изяслава и бросил киевлян на произвол судьбы! Когда вернулся Изяслав, семьдесят мужей, выпускавших Всеслава, были изрублены, а иные ослеплены, а еще многие безвинно погублены, без разбора.
– Вот так и Ольгович, как Всеслав! – раздался визгливый голос в одном конце.
– Нельзя оставлять врага в городе многолюдном!
– Надобно спасаться от Ольговича! – откликнулось в другом конце.
– Пойти, да убить!
– Убить!
– Убить!
И так, перекликаясь и подталкивая друг друга, киевляне распалялись все сильнее, гигантская толпа раскачивалась все яростнее и угрожающе, а там не уместилась на площади возле Софии, выплеснулась дальше и, разъяренная, бросилась к Владимирову городу, где в монастыре святого Феодора был князь Игорь.
Дулеб писал: «Когда всадник не натянет своевременно поводья у своего коня, то куда занесет его конь? А еще когда конь взбешенный…»
Ни митрополит, ни тысяцкие, ни посланцы великого князя Изяслава, несмотря на то что были возле Софии с прислужниками и дружиной конной, как-то не сумели противодействовать злу. Все они продолжали стоять, верно, растерянные и напуганные яростью киевлян; дружина, которая могла бы легко преградить путь разъяренным людям, тоже не двигалась с места, не получив соответствующего повеления. Должен был бы спохватиться митрополит Климент, и хотя бы вослед толпе изречь тяжкую анафему, и, быть может, этим высоким иерейским проклятием остановить если не всех, то, во всяком случае, многих, разобщить люд, разделить на овец и козлищ, на послушных и непокорных, которые сразу бы потеряли половину силы, а значит, и решительности. Но и митрополит молчал, то ли не отваживаясь до поры до времени бросать анафему на люд, над которым он только что получил священную власть, то ли боясь, что его грозное проклятье все равно не поможет и тем самым будет поколеблена вера в силу божьего слова.
Только юный князь Владимир бросался то к тысяцким, то к митрополиту, то к дружине, но ему мешала неопытность, он не сумел изречь решительное слово, которое могло бы предотвратить преступление; единственное, что он смог, – быстро вскочил на коня и один помчался наперехват толпе, но не успел проехать к городу Владимирову по узкому мосту, до отказа запруженному людом. Тогда он рванул вправо мимо Глебова двора, но и тут киевляне опередили его, и, пока он добрался к монастырю с другой стороны, убийцы уже ворвались туда и рыскали по всем уголкам в поисках князя Игоря.
А Игорь, от природы не наделенный способностью к предчувствиям, стоял на обедне в монастырской церкви, молился перед иконой божьей матери. Налетчиков не остановили ни святость места, ни углубленность князя-схимника в молитву. Они схватили Игоря, сорвали с него мантию и схиму и, вслепую ударяя куда и чем попало, потащили из монастыря. У ворот появился князь Владимир, который только что примчался туда кружным путем. Увидев его, Игорь заплакал: «Ох, брате, камо?» Тогда Владимир спрыгнул с коня, накрыл Игоря своим княжеским корзном, крикнул киевлянам: «Братья мои, не сотворите зла, не убивайте Игоря!» – и повел его к Мстиславову двору.
Дулеб писал: «Одного лишь корзна княжеского было достаточно для того, чтобы отступились даже те из киевлян, которые были ослеплены собственной яростью и беззащитностью своей жертвы. А что, если бы прикрыли Игоря не корзном княжеским, а дружиной конной?»
Владимир успел довести Игоря до ворот Мстиславова двора, но тут преследователи спохватились, а может быть, это набежали какие-то новые, они догнали беглецов и с молчаливой жестокостью начали вырывать из рук Владимира избитого до крови Игоря, били Игоря, били заодно и Владимира, а когда появился здесь младший брат Владимира Михалко, верхом на коне, и, соскочив на землю, попытался было защитить князей, били также и Михалка, сорвали с него крест и чепы, весом в целую гривну золота, свалили на землю, топтали так, словно бы речь шла здесь не о мести над Игорем и Ольговичами, а над всеми князьями, малыми и великими, из всех родов, известных и безвестных, нелюбимых и почитаемых, – все равно. Владимир снова воспользовался заварухой и, не веря, чтобы озверелая толпа мстила еще и маленькому князю, не стал защищать Михалка, а молча протолкнул Игоря во двор к матери, закрыл ворота перед самым носом у разъяренных убийц и поскорее спрятал еле живого князя в кожуховых сенях.
Дулеб писал: «Княжеский дом оказался запертым всеми своими дверями даже для того князя, который там жил, кто же запер эти двери и когда и зачем? Вот бы знать».
Кожуховые сени были вознесены чуточку над землей, однако они были открыты всем взглядам снизу, не представляли никакого убежища, и перепуганный Игорь напрасно метался от окошка к окошку и торопливо и часто крестился на все четыре стороны света.
Те, что были за воротами, ворвались в княжий двор, тотчас увидели Игоря, выбили дверь в кожуховых сенях, стащили князя вниз и тут, в конце ступенек, добили его и за ноги потащили через Бабий Торжок к Десятинной богородице, словно бы намереваясь бросить труп перед этой великой святыней. Кому казалось, что Игорь еще жив, тот продолжал бить князя, так что, если он и в самом деле сохранял еще в теле какие-то признаки жизни, растерял их на Бабьем Торжке уже навеки. На пути толпы попался какой-то воз, запряженный дохлой клячей, и тогда убийцы изменили свое намерение, бросили труп на телегу, вскочили на нее сами и велели хозяину везти их со страшной поклажей на Подол. Там на торговище сбросили труп князя в грязь и исчезли бесследно, словно их и не было никогда, словно это и не киевляне учинили зло, а какая-то насланная неведомая сила. И хотя не видели, чтобы кто-нибудь подходил к убитому, вскоре тот оказался нагим, как при рождении на свет, и говорили, будто это тайком приходили благоверные и отрывали от одежды убитого по кусочку во спасение и исцеление, пока вовсе не обнажили труп.