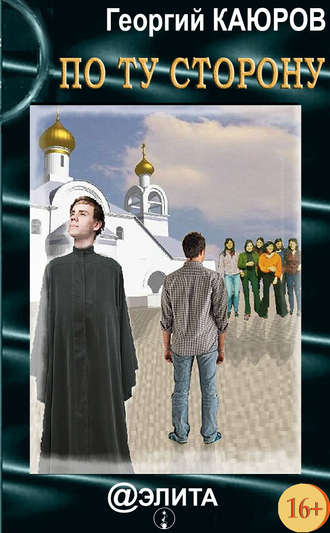
Полная версия
По ту сторону (сборник)
– Вот тебе и барабан в нашем оркестре, – выдал я мысли вслух.
– Чего? – не расслышав, промямлил Виктор.
Я не стал повторять, а только приложил палец к губам и продолжал слушать объявления. От услышанного отроки приуныли, а их отцы встрепенулись, обмениваясь улыбками. Кто-то бросил из зала:
– Правильно! Что с сыном, что с ослом разговор один – батогом, – и по залу разлетелся зычный гогот сказавшего. Святые отцы одобрительно закивали, поддержав веселье разноголосым ржанием. Плогий подождал, давая батюшкам повеселиться, и закончил:
– У меня, значит так всё, брат Владимир, – с лёгким поклоном обратился Барабан к ректору и вновь занял своё место. Священники-наставники семинарии, сделав своё дело, умолкли.
Ректор, собирая всеобщее внимание, выдерживал паузу, которая сидящим в зале показалась тяжелее свинцовой гири. Затем, не проронив ни звука, встал. Следом за ним поднялся и весь зал. Митрополит Владимир на прощание осенил всех присутствующих тройным знамением. Святые отцы вперемешку с отроками вереницей потянулись, прощаться – снова приложиться к руке ректора митрополита Владимира и отца Михаила. В этот раз все целовали руку, и святые отцы тоже, показною покорностью заслуживая расположения для отпрысков. По их виду и поведению было заметно, медкомиссия озадачила.
Мы с Виктором подошли последними. Опять я уловил бешеную лукавинку в глазах ректора, когда поцеловал руку и снизу взглянул на него. А может, показалось. Прощание получилось. Виктор приложился тоже к рукам обоих отцов, отец Михаил возложил на его голову перст, и поэтому Виктор шел в общежитие в приподнятом настроении. Я слушал товарища глазами, мысли мои бродили в очень темных комнатах сознания, и слух мне нужен был там. Но Виктор не замечал моего настроения. И слава богу!
Наутро всех желающих стать батюшкой выстроили в тёмном коридоре второго корпуса. Собралась разношёрстная компания. Здесь можно было увидеть и безусых юнцов, и парней, прошедших огонь, воду и медные трубы, таких как я, например. Во всяком случае, я приметил нескольких человек, которые по моему заключению подходили мне по возрасту, и за плечами которых просматривалась армия. Большая часть никакого пороху не нюхала, о медных трубах и говорить нечего. Вдоль шеренги вышагивал вчерашний толстяк Плогий и рассматривал каждого в отдельности. Сегодня от него дурно пахло, по-видимому, толстяк не ночевал дома.
– Чем это воняет? – воскликнул худенький паренёк, опоздавший к общему сбору и вскочивший в строй перед самым носом Плогия. Барабан медленно повернулся к возмутителю спокойствия, и уставился на него, буравя злым взглядом. Пареньку оставалось только покраснеть от осознания несвоевременной несдержанности, но он выдержал злой взгляд Плогия. Барабан ещё дважды прошёлся взад и вперёд и вдруг прокричал:
– Значит так! Всем раздеться!
Шеренга зароптала. По правде сказать, и мне не особенно хотелось раздеваться. Толстяк не спешил, давая нам выпустить пар, и членораздельно продекламировал:
– Вещи сложить на кресла вдоль стены. Значит так, – сказанное он подкрепил жестом руки, указав направление, – перед вами. – Для последней фразы толстяк набрал больше воздуху в лёгкие и перешёл на скороговорку: – Не теряем времени, поскольку врачи, значит так, ждать не будут, а без медкомиссии не будет зачисления в семинарию, а… – Барабан хотел что-то ещё добавить, но запнулся.
– Значит так! – выкрикнули из шеренги, кривляя Плогия.
– Быстро раздеться! – рявкнул Барабан, ища глазами кривляку, но ничего не смог придумать, как злобно промычать: – Вот так.
От вида Барабана отрокам было не до смеха. Последние слова Плогия возымели магически, и все бросились стягивать с себя одежду. То там, то тут, по шеренге пошли раздаваться смешки и шуточки. Еще секунду назад раздевание вызвало бунт в душах отроков, но мгновение спустя они веселились, разглядывая свои костлявые, иссиня-прозрачные от постоянных постов тела. Неожиданно отроки умолкли и стали расступаться в разные стороны. Взоры их потемнели, пропитались тревогой и устремились в конец коридора. Из его глубины, из самого его чрева, откуда ни возьмись, прямо на нас шёл инспектор отец Лаврентий. Толпу прошило из уст в уста «инспектор-инспектор-инспектор». Я тоже узнал знакомый силуэт, со сцены в актовом зале, и заворожено ждал приближения инспектора, чтобы наконец, увидеть его лицо. Брат Лаврентий, облачённый в одежды цвета слоновой кости, остановился возле толстяка, не сводя с нас застывшего взгляда. Высокая камилавка, водружённая у него на голове, делала инспектора чуть ли не в двое выше. Впалые щеки зловеще вычерчивали увесистый подбородок, с которого стекала на грудь скудная бородёнка. Инспектор настолько был тощим, казалось, кожа натянута на кости. Впалые глаза, тонкими разрезами сверкали из-под массивных надбровных дуг, разбрасывая по сторонам искры уничтожающего огня. Не дай бог попасться под эти искры!
«Н-да-а! – приуныл я. – Отец не добрался, это так. А я не в руках инспектора – в клюве! Цапля – цаплей!» Мне неоднократно доводилось видеть, как цапли в наших плавнях собирали лягушек. Я подолгу наблюдал за этим самым обычным обедом и представлял цаплю из детских сказок и былин – цапля профессор, цапля учитель, цапля воспитатель – с ученной книгой, ручкой и непременно в очках. А у нас в плавнях, вон он, важно поднимая ноги, ходит этакий учитель и тюкает клювом-торпедой в лягушек, подкидывает оглушенных тварей, и задрав клюв, словно регоча заглатывает их. Бедные лягушки только успевали лапками помахать у края клюва и заправлялись в глотку. Я смотрел на Отца Лаврентия, и мне представлялось, как он меня заглатывает, а я ручонками машу моим не состоявшимся однокашникам и проваливаюсь к нему в утробу. Мне было из-за чего приуныть.
Плогий заулыбался и живо подался всей своей бесформенной фигурой к инспектору. Цапля что-то ему проговорил одними губами. Всматриваясь в лицо Плогия, я не мог разобрать, то ли толстяка смутило услышанное, то ли он не понял слов инспектора и должен обязательно переспросить, но толстяк, едва заметно, понятливо искрнул усмешкой и выступил вперёд. Глотка его зычно прокричала:
– Значит так! – в голосе его зазвучало предвкушение удовольствия от предстоящего, заказанного братом Лаврентием, действа. – Трусы спустить до колен!
Против обычного – все подчинились безропотно. Что мне, прошедшему армейские бани и медосмотры? Для многих же – это безобразие, но страх перед инспектором оказался сильнее. А, может, так и надо на медосмотре в семинарии? Отроки терялись в догадках и неуверенно, поддерживая друг друга собственным примером, опускали трусы. Цапля вошёл в образованный коридор и, рассматривая голых отроков, медленно двинулся вдоль него. Шествие инспектора сопровождалось тревожным шорохом. Брат Лаврентий так и ушёл в темноту, только в другое крыло коридора. Все с облегчением вздохнули, и гвал поднялся с новой силой.
Для семинариста инспектор – главное лицо в семинарии. Нет, конечное, ректор – самый главный! И семинарист может ему пожаловаться на инспектора. Но… На бога надейся, а с инспектором не оплошай!
– Построились! – рявкнул Барабан, криком приструнивая беспорядок. Когда все построились, он опять прошел вдоль шеренги, оценивающе разглядывая отроков. По-видимому, удовлетворившись, проследовал в кабинет и вышел из него с толстым журналом в руках. На этот раз толстяк проходил вдоль шеренги медленно, буравя своими глазками каждого отрока. Вдруг он остановился и, ткнув карандашом в грудь избранника, выкрикнул:
– Фамилия?
– Ревенко, – испуганно проблеял юнец.
– На комиссию, – указав карандашом за спину, толстяк размашистой галочкой отметил в журнале фамилию и направился вдоль шеренги, а отрок засеменил на медосмотр.
Вся шеренга вмиг замерла и выпрямилась в напряжении – наконец-то началось! После первого вызванного, Барабан долго маршировал вдоль шеренги, словно забыв, для чего нас собрал. Остановился он так же неожиданно, как и в первый раз. Я приготовился, внутренне застыв, но толстяк ткнул в моего соседа:
– Фамилия?
– Иванов, – неуверенным от напряжения голосом признался отрок.
– Как же ты с такой фамилией Всевышнему служить будешь? – с нескрываемым любопытством поинтересовался толстяк, озадачив вопросом русоволосого доходягу.
– На Руси все Ивановы… – дрожащим голосом начал отрок, но Плогий не дал ему договорить и гаркнул, оборвав на полуслове.
– Так тож на Руси, а не в Царствии Небесном. На медосмотр! – и в след убегающему Иванову с усмешкой прокомментировал: – Тоже мне причина в батюшки идти, – и зло оскаблился.
Отроки даже боялись посмотреть на зверствующего Плогия, а он, прохаживаясь вдоль шеренги, потешался и отправлял по своему желанию очередного на медосмотр, как на заклание, при этом ставя против его фамилии размашистую галочку. Чего только стоили комментарии, которыми осыпал Барабан головы бедных отроков!
До меня очередь никак не доходила. Хотя, толстяк пару раз останавливался рядом, но только чтобы отправить соседа справа и затем – слева. Все остальные его маршруты пролегали мимо.
В самый разгар медосмотра все вдруг увидели ректора. Можно было только догадаться, он вошёл через боковую дверь. Отец Владимир стоял возле боковушки, ожидая, когда Плогий закончит с очередным отроком. Появление ректора приструнило шеренгу. Мы подтянулись и умолкли. Цапля срамил заставив снять трусы. Чего от этого ждать? Власти у него вдвое больше. Толстяк завращал глазами по голым отрокам, ища причину изменения нашего поведения. Когда взгляд его остановился на фигуре ректора он подтянулся, попытавшись втянуть живот, и чеканя шаг, подошёл к нему. Тот его о чём-то тихо спросил, и они принялись, бубня, переговариваться. Ректору пришлось слегка склонить голову набок, чтобы лучше слышать коротышку Плогия. Барабан-Плогий же вытянулся на цыпочки и говорил одними губами, в подтверждение сказанного тыкал в открытый журнал. Ректор бросал взгляд следом за пальцем толстяка, и исподлобья рассматривал проредившуюся шеренгу. Как мне показалось, особо его занимала моя персона. Почувствовав к себе интерес ректора митрополита Владимира, я отвернулся, чтобы не провоцировать в себе самоедства, которым в избытке страдал мой товарищ Виктор, пытавшийся всячески и меня этим заразить. В очередной раз я обратился к Богу, поблагодарив за то, что Виктора среди оставшихся нет, и он проходит медосмотр. Всё-таки мне пришлось обернуться, когда я краем глаза уловил, толстяк смотри в мою сторону и получает указания от отца Владимира. Моё любопытство оказалось оправданным – их внимание было обращено к моей персоне. «Да и чёрт с ними», – досадливо отмахнулся я, в этот раз призвав бога из другого царства.
Хлопнувшая дверь известила – ректор удалился. Толстяка озадачил разговор со столоначальником, и он продолжал стоять, отвернувшись от нас, уставившись в немую дверь за которой скрылся ректор. Затем он круто повернулся и быстро подошёл ко мне.
– Фамилия!
– Крауклис.
Плогий не смог скрыть замешательства. Он медлил записывать и всё-таки не выдержал:
– По буквам.
– Ка, эр, а, у, ка, эль, и, эс, – я не моргнув, быстро назвал по буквам свою фамилию. За мою сознательную жизнь, мне неоднократно приходилось этим заниматься.
– А имя? – по глазам толстяка угадывалось, он ждал чего-то необычного, но я его разочаровал.
– Егор.
– Н-да, – протянул толстяк и, немного замешкавшись с писаниной, тихо сказал: – На медосмотр.
Плогий хотел отпустить колкость по моему адресу, но всё тот же разговор с ректором, его удерживал.
Наконец и мне предстояло увидеть, что происходило за дверью, в которую входили отроки для медосмотра. Это была просторная аудитория предназначенная для лекций, и в несколько рядов заставленная партами. В разных концах аудитории расселись четыре доктора в белых халатах. Следовало пройти и отметиться у каждого из них. Когда я прошел последнего, тот, не глядя в мою сторону, подтолкнул по столу исписанную медицинскую карточку и, махнув большим пальцем за спину, сказал:
– С карточкой к хирургу.
Я не понял врача и собрался уйти, как и вошёл, решив, – хирург находится за стеной и проходить к нему все тем же коридором, но доктор остановил меня.
– Дверь там, – указав в угол и посоветовал. – Прежде чем войти, постучите.
Только теперь я разглядел в самом углу низкую дверь, точь-в-точь похожую на дверь библиотеки и точно так же врытую в землю. Подойдя к ней, я постучал. За дверью звонким голосом позвали:
– Прошу!
Чтобы войти, мне пришлось изрядно наклониться. Комната оказалась довольно-таки просторной и хорошо освещённой электрическим светом. Напротив двери, за столом, в пол-оборота сидела сгорбившись тощая старуха в белом халате и высоком колпаке с размерной тесёмкой на затылке. Она водила огрызком карандаша, зажатым в её крючковатых пальцах, в точно такой же карточке, какую я держал в руке, – по-видимому, предыдущего отрока. Не взглянув в мою сторону, она сухо сказала:
– Карточку на стол, трусы на табурет в левом углу, а сам становись справа.
Старуха походила на библиотекаршу, только вполовину короче и резвее. Карточку я положил перед нею, но все остальное не совсем понял и остался стоять в центре комнаты, ожидая разъяснений и рассматривая временное пристанище докторши. Из лавки сделали медицинскую кушетку, покрыв ее белой простыней. У табурета в углу лежало несколько пар трусов, позабытых отроками. Меня озадачило, в чем же ушли отроки? Наконец докторша закончила писать и взялась за мою карточку. Она внимательно прочла фамилию и грозно посмотрела на меня. Наверное, сличала, соответствую я фамилии или нет, а может и наоборот, фамилия – мне. Затем принялась писать, бросая взгляд в мою сторону и давая короткие команды: «Спиной ко мне». «Боком». «Лицом». Я послушно выполнял, выставляя себя напоказ худосочной докторше. Надо отдать ей должное, она не пользовалась очками. Оставив мою карточку открытой, она подошла к металлическому столику, накрытому белой салфеткой, и натянула на правую кисть резиновую перчатку. Белоснежная перчатка обновила её корявую кисть.
– Трусы на стул и сюда, на кушетку, – тоном, не терпящим возражений, приказала докторша. Видя моё замешательство, равнодушно добавила: – Давайте, давайте, поторапливаемся. На кушетку – головой к двери.
Делать было нечего. И вот я стоял на кушетке на четвереньках, в чём мать родила, перед докторшей. Она положила руку мне на поясницу и подала очередную команду:
– Спину опустите, – докторша усилила слова нажатием рукой, для меня определяя, в каком месте опустить спину. Только я послушно выполнил команду, как хирургесса заширнула палец мне в задний проход. Я едва не задохнулся. Докторша, быстро орудуя пальцем, обследовала меня из нутрии и, скинув в таз перчатку, как ни в чём ни бывало, уселась за стол и принялась записывать результаты наблюдений. Мне же коротко приказала:
– Дверь для выхода там. Не забудьте трусы.
Вот почему я не видел никого из тех, кто прошёл медосмотр. Комната, в которой принимала докторша хирургесса, имела второй выход. На прощание я улыбнулся куче забытых трусов, представив, как улепетывали из этого кабинета их обладатели. После хирурга отроки проходили в помещение в другом крыле корпуса и накапливались в ожидании своей участи. Когда я вошёл, на меня уставились несколько пар глаз. Первая мысль, которая меня посетила, рассмешила до коликов, и я тут же её озвучил:
– Вот мы и не девственники.
Прошедших медосмотр собирали в накопитель, куда входил дьячок и, выкрикивая фамилии, делил собравшихся на две группы. Меньшую – выводили в дверь с выкрашенными стеклами, которая вела обратно в коридор, с которого начинался медосмотр, – это были те, кто не прошел медкомиссию и на второй экзамен не допускались. Но это нам суждено узнать позже. Большую группу, в которую попали мы с Виктором и Семён, дьячок вывел в другую дверь с приколоченным к ней восьмиконечным крестом. Мы прошли по темному коридору, и когда, натыкаясь друг на друга, остановились, дьячок открыл следующую дверь в большое светлое помещение, осветив и нас и коридор ярким солнечным светом. Нашему взору предстали полки с аккуратно сложенными одеждами и огромные полосатые мешки, набитые бельём. В нос ударил тяжёлый сырой воздух с парами хозяйственного мыла. Но мы как завороженные смотрели на два огромных, на всю стену, окна. В них и втекал солнечный свет. Радость охватила всех, и поднялся галдеж, который осадил дьячок грозным: «Цыц!». Встретила нас хозяйка прачечной кастелянша – добротная баба в наглухо повязанном платке. Она расплылась в улыбке:
– А-а, касатики, будем знакомы – тётя Лида, – представилась кастелянша, и принялась снимать с полок свертки с одеждой и выкладывать на прилавок.
– Всем одеваться, – призвал дьячок.
Отроки начали хватать одежды и подняли веселый гомон. Это было первое веселье с самого начала медосмотра. О группе, которую вывели в другую дверь, вспомнили, когда все оделись и разглядывали новые семинарские наряды – подрясники.
– Все, кто находится здесь, годятся по телосложению и мускулам быть батюшками, – прокомментировал Дьячок наш интерес.
Вся группа с облегчением выдохнула, и грянуло дружное «Ура!» Но недолго длилось ликование. Вдруг кто-то сказал:
– Ещё же второй экзамен.
Опять наступило гробовое молчание. Разрядил обстановку всё тот же дьячок:
– Одеваемся, одеваемся, сам ректор распорядился вас облачать, стало быть, все поступите. Благодарите наступающие перемены в стране. Набор должен быть полным.
Последних слов дьяка мы не поняли, новый выдох облегчения пронесся по толпе без дополнительного ликования. Общительный же дьяк продолжал распространяться:
– Не все дойдут до окончания.
– Как это? – поинтересовался кто-то из поповичей.
– А вот так! – многозначительно заключил дьяк. – Отсеетесь за четыре года. Добре, если половина дойдёт. Не такой простой путь вам предстоит. Тернист путь в батюшки.
– А к богу? – с серьёзным видом спросил дьяка Семен, а мне лукаво подмигнул.
Во взглядах отроков застыло напряжение. Дьяк не понял Семеновой иронии и на полном серьёзе ответствовал:
– К богу, путь у каждого свой… – и, выдержав паузу, заключил. – Аминь!
Отроки озадачились услышанным, но надменным видом каждый продолжал показывать, – к нему это не относится.
После облачения в семинарские одежды многих отроков невозможно было узнать. Их лица застыли в величественных гримасках. На тощих грудных клетках засияли маленькие нательные крестики-распятия, которые они то и дело поправляли. Плогий, который пришёл проверить облачённых отроков, язвительно сказал:
– Чего нательные распятия выставили?
Не все поняли, в чем промашка, и принялись переглядываться, пожимая хилыми плечами.
– Значит так! Убрать с подрясника! – выдержав паузу, гаркнул Плогий.
Отроки засуетились, пряча распятия туда, где им и место. Плогий наблюдал за всем молча. Когда строй успокоился, он ещё более зычно приказал:
– Завтра второй экзамен! Марш все в общежитие! На расселение, – и, круто развернувшись, ушёл. Дьяк только крякнул от удовольствие. За всю свою жизнь, проведённую в стенах семинарии, он не раз видел подобные сцены, и для себя с них начинал курс обучения для новичков. Он по-отечески относился ко всем отрокам, особенно к вновь прибывшим. Их ему было чуточку жаль. Поэтому, отворачиваясь от отправляющихся в общежитие отроков, растроганный дьяк прослезился. Для него торжественная часть на этом и закончилась.
К началу второго экзамена сумки с вещами отроков свалили в холле общежития. Так распорядился предусмотрительный комендант, чтобы сразу исключить из числа поселенцев тех кто провалился после первого тура. Прошедшие первый экзамен и облачённые в подрясники, будущие батюшки, кинулись выхватывать каждый свою сумку. Хватали – как рвали. В результате разворошили всё и разбросали сумки с вещами тех, кого отсеяли. Какая-то неоправданная злоба взвилась над головами будущих батюшек. Надо полагать, и подворовали, не побрезговали. Мы с Виктором наблюдали за нашими завтрашними однокашниками и диву давались. Все на радостях улыбались, но смотрели и совершали пакости со злобой над вещами неудачников. «Чем ближе к вышке, тем виднее задница мартышки», – вспомнилась мне любимая отцом поговорка. «Как нам повезло», – отметил я про себя и этим поделился с товарищем:
– Хорошо, что нас не заставили собирать вещички и освобождать комнаты.
– Тихо, – зашипел на меня Виктор, указывая на старуху у двери, зорко наблюдающую за бедламом. – Они, наверное, решили, – мы старшеклассники.
– Сейчас проверим.
– Ты куда? – хватая за руку, попытался остановить меня Виктор.
– Пошли за мной, – на этот раз я вцепился в руку товарища и потащил его навстречу старухе, которую мы благополучно миновали. Она не пыталась нас остановить, пропустила с таким видом, словно узнала своих. Проскочив на второй этаж, мы пожали друг другу руки и с восторженным чувством разошлись по обжитым углам, ожидать соседей. Где-то снизу раздавались распоряжения, отдаваемые старухой и, вторя ей, приближался гомон торжествующих отроков.
Расселяли по двое-трое в комнатах. Не повезло тем, кого разместили по трое. Комнаты, так называемые кельи, рассчитаны на двоих человек – по количеству шкафов. Как разделить два шкафа на троих ума не приложу.
Наконец, дошла очередь и до моей комнаты. В дверях показалась старуха, сопровождаемая семинаристами-поселенцами. Из толпы протиснулся Семён и, быстро смерив меня взглядом, скомандовал:
– Так. Тут я остаюсь, – он поднадавил на «я» и, бросив на кровать сумку, свойски подмигнул мне. Затем Семён воздел руки кверху и забасил: – Всё, всё. Нам тут и вдвоем тесно будет. Не видишь, матка, какое у меня брюхо? – с этими словами Семён выпучил глаза и навис над старухой, грозно уставившись ей в темя.
Старуха собралась было возразить, но Семён надул пузо и надвинулся на неё. Старуха, быстро оглядев комнату, удалилась, уводя за собою всех остальных. Шумная толпа поселенцев переместилась в комнату напротив, к Виктору. Я с облегчением выдохнул и ждал, разглядывая моего будущего соседа по келье с нескрываемым весельем. Семён медленно повернулся, выставляя свою сияющую физиономию. Он был доволен отбитым для себя желаемым пространством.
– Будем жить вместе, – пробасил Семён и, розовея, улыбнулся.
Я не успел ответить, как опять открылась дверь, и вошел мужик с ящиком инструментов. Он молча подошёл к открытому окну и, захлопнув шипку, заколотил гвоздями. В ответ на наш немой вопрос сухо пояснил:
– Не положено, – и удалился.
Мы рассмеялись в спину плотнику. Чёрт с ним, с этим окном, только бы не подселили третьего.
– Запри дверь на ключ, и молчок, – приложив палец к губам, засуетился Семён, когда за плотником закрылась дверь. Подойдя к заколоченному окну, он потянул, проверяя его на прочность. Створка скрипнула под напором амбала, а тот прокомментировал: – После откроем.
– Располагайся. Эта тумбочка твоя, – наконец, смог и я проявить гостеприимство, с интересом наблюдая за Кувалдой, с которым, может быть, предстояло прожить четыре семинарских года. – Твой шкафчик правый, – вводил я в курс общежития соседа. – Койка эта, – ткнул я пальцем на кровать, на которой уже лежала огромная сумка Семёна.
– Хлиповата сеточка, – Семён, проверяя сетку на прочность, слегка, как мне показалось, придавил, да так, что та едва не коснулась пола. Мне пришлось признать, в этом толстяке сидела недюжинная силища.
– Матрас там, на антресоли, – продолжал я знакомить Семена с хозяйством нашей комнаты. – Постельное бельё в том мешке.
Семён слушал и исправно обустраивался. Он как пушинку стянул с антресоли матрас и вмиг застелил постель. Затем так же, как пушинку, закинул свою сумку на освободившееся от матраса место. Открыв шкафчик, Семён долго смотрел внутрь и, покачав головой, захлопнул дверцу. Я же с интересом наблюдал за моим соседом по комнате и утвердился окончательно: «Кувалда».
Поселение было закончено, и Семён, – полноправный жилец нашей кельи, свалился на кровать, которая по-своему приветствовала нового жильца – она рухнула, огрев Кувалду быльцем по голове.
– Чуяла моя душа – бесовская кроватка хлипкая для праведника, – сквозь стон лукаво улыбался Семен, потирая ушибленную голову. Вдвоём мы снова наладили кровать, и Семен опять попробовал ее на прочность, как и прежде с силой надавив. Критически осмотрев кровать со всех сторон, Семен все-таки медленно растянулся на ней, всем видом показывая, что не намерен отступать. Кровать скрипнула угрожающе, но на этот раз устояла. Новичок был прописан в жильцы!
Больше нас никто не тревожил. Оставшиеся до ужина полдня мы с Семёном никуда не выходили. Запершись в своей комнате, тихо разговаривали, знакомясь, и делились планами на будущее. Так я узнал, что Семён пошёл в семинарию, только чтобы не идти в армию.
– А я от звонка до звонка, два года назад демобилизовался. Домой пришёл, отец месяц как лежит. Я уходил – была одна страна, а вернулся – в другую, – с каждым словом грусть пропитывала мой голос, как я ни старался с нею бороться, но так на надрыве и рассказал свою незамысловатую историю прихода к Богу. – Когда отец умер, ещё сомневался – идти в семинарию или нет? Думал в институт поступать. Пока похороны, пока – девять дней, затем – сорок. Мать расплакалась – отец бросил, на кого ты бросаешь меня? Сроки поступления и прошли. Устроился на работу в кооператив. Их теперь расплодилось видимо-невидимо. Денег платили мало. А тут приехал новый священник. Дом, в котором мы жили, – приходский. Куда деваться? Мать всё гадала, выселят нас или нет. Господу Богу молилась. Новый священник как вошёл в дом, так матушку у него на глазах удар хватил. Скоропостижно скончалась матушка. Священник разрешил пожить, пока не похороню, но потом велел освободить дом. У самого семейство. Спасибо, дал направление в семинарию. Я взял на всякий случай. Положил вместе с письмом отца. Отец перед смертью вручил мне письмо для ректора семинарии отца Владимира. Сказал, надумаешь поступать, поедешь с этим письмом к брату Владимиру. Не пригодилось, – с этими словами, я достал конверт и показал своему соседу. – Я не читал его. Так и лежит нераспечатанное. Пусть лежит. Для истории. Выделил мне новый батюшка из казны тысячу рублей для поездки и поступления в семинарию. Сказал, будет от прихода платить стипендию, если поступлю, а нет, так и суда нет. Куда идти? Прописки нет. Без неё талонов не дают. А талоны на всё – масло, сахар, мыло. Отец не очень-то хотел, чтобы я посвятил себя церкви, а мать упрашивала не сворачивать с пути, избранного отцом для нашей семьи. Она считала, – это мой и нашей семьи путь. Как же мой, если отец рассказывал, случайно попал в священнослужители. Может быть, это и есть рок – не хотеть, а прийти в церковь? Ведь народ не зря говорит: яблоко, от яблони.

