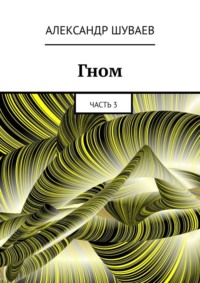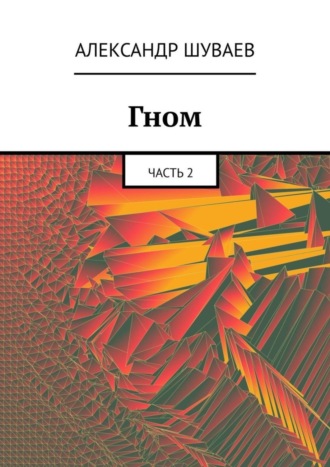
Полная версия
Гном. Часть 2
Да, организация капитуляции возложена именно на него. Сдать следует все автоматическое оружие, а один карабин из десяти следует оставить. Да, были случаи, когда на решивших закончить боевые действия нападали небольшие группы сумасшедших фанатиков. Что? Нет, не опасаемся. И не видим большой беды в том, что кто-то уйдет домой. Да, без винтовки. Только учтите, что дома нечего есть, а кто будет скрываться, не получит продовольственную карточку… Нет, меня сложно обвинить в предательстве, потому что моя семья живет в России двести пятьдесят лет, а Германия для меня совершенно чужая страна. В Сибирь? Не знаю. Может быть кто-то, со временем. Сейчас слишком много работы здесь, транспорт уничтожен, начинается голод, и если не наладить хозяйство, скоро начнется голодный мор. Не бойтесь Сибири. Мы оба оттуда родом и, честное слово, очень хотим домой. Выданный вам пропуск действителен, только если вы идете в правильном направлении, отмечаясь на всех контрольных пунктах… Что? Просите оставить пулемет до прибытия к месту назначения? Ладно, в виде исключения. Как фамилия? Эйдеманн? Так и запишем. Что? Нет, американцы не высадились, и лучше не рассчитывать, что высадятся.
Оберст отправил офицеров к солдатам, знаком попросив русского задержаться. Он безошибочно определил в нем настоящего специалиста по части организации и приема капитуляций, причем, похоже, специалиста высококлассного. С таким разговор может и получиться. Вполне.
– Скажите, – что произошло? Если не секрет, конечно.
– Какой там секрет. Восстание в Словакии, восстание в Праге. И ваши коллеги, вместо того, чтобы вести себя благоразумно, и сдаться, пока просят по-хорошему, пытаются его подавить. Никак не возьму в толк: на что рассчитывают? Обозлят моравов, и они наши танки на руках донесут… Зачем им лишние грехи? Все никак не навоюются…
Через открытый фронт бесконечно, сменяя друг друга, двигались грузовики, самоходные установки, танки и снова грузовики. И любому, имеющему глаза, было видно, что именно будет завтра с ребятами Шернера, сколько они продержатся против Пятой Гвардейской, и как поступят с ними те самые чехи с моравами в приступе праведного гнева, внезапно вспыхнувшего на почве столь же неожиданного свободолюбия. Они, понятно, известные вояки, но человек у себя дома при желании может перекрыть супостату практически все снабжение, и тогда он много не навоюет. Пожалуй, что и никто не уцелеет.
– Не-е, ты не говори, совсем другой немец пошел. Понятливый. Одно удовольствие с таким. Ты ему, мол, – хенде хох, битте, – а он со всем удовольствием. Никакого, значит, спору. Так-то воевать можно. Не-ет, что ты мне ни говори, а конец скоро. По всему видать. Такое прям счастье начнется, аж… Аж прям слов не хватает. Все по-другому будет!
– Это с какого такого перепугу?
– А как жа? Ведь такую войну отломали. Заслужили, значит, достойны. Все колхозы отменют, по-людски заживем!
– И где же это ты, Пыхов, таких вредных антисоветских речей наслушался? С чего ты это все вообще взял, в свою глупую голову?
– Все говорят!
– А ты, Пыхов, – того. Как ты есть настоящий патриот советьской родины, то должен враждебные слухи пресекать. Разъяснять всю враждебную и клеветническую сущность этих, как его… злостных наветов на родной колхозный строй. А того лучше, – послюни химический карандаш, да и запиши имена и фамилия болтунов для особого отдела. А ты чего? Сам враз поддаешься на вражескую агитацию… Ну? Чего замолк-то? В портки навалил? То-то. Это тебе не в атаку ходить, либо, к примеру, под бомбежкой сидеть. Чего не радуисся-то? Вот те и весь сказ, Пыхов. Хоть ты три войны отломай, хоть скирду из фрицев сложи, а скажут тебе пару правильных слов, – и дело сделано. Такое ж самое ярмо наденут, что и до войны, тока потежельше, потому – все поломано и разорено, и работать, окромя тебя, Пыхов, некому. Понял? Это значит, что ты и будешь, света белого не видючи.
– Вот мутный ты мужик, Федор. Злой. Вот ты скажи – сам не радуисся, что войне, по всему, каюк скоро?
Да нет, почему? – Федор Хренов чуть приподнял голову, и руки его, сноровисто ломавшие хворост, чуть замедлили работу. – Радуюсь, конешно. Надоела война эта хуже… довольно-таки порядочно, короче. Нутро поет, что уцелел вроде. А головой понимаю, – зря радуюсь. Тут немец в тебя стреляет, – ты в него, оно и ничего, по-честному. А там тебя бригадир в три погибели гнет, а ты и пикнуть не моги… Домой приеду – так жена, поди, в старуху превратилась, тело жидкое, и глядеть не захочешь, все, опять-таки, поломано. А главное винтовки нет. Ни стрельнуть кого, ни слова поперек сказать, ни уехать куда. Вот помяни мое слово, – которые из деревень, только и будут, что самогонку жрать. Зальются ею. От общей безнадежности жизни. Это когда и так все кругом хреново, и, главное, ничего хорошего и ждать-то нечего. Не-е, я попрошусь на службе меня оставить. В Германии за немцем приглядывать, чтоб не озоровал. У меня-то не забалуют.
– И-и… Да с какой радости тебя-то в погонялы поставят, Федь? Чай, почище найдутся. Офицерье, грамотеи культурныи, сынки начальнические.
– А – увидишь. Как я сказал, так и будет. А все почему? А потому, Пыхов, что власть у нас не барская какая-нибудь, не буржуйская. Она у нас рабоче-крестьянская, плоть от плоти, значит, кровь от крови трудового народа. Поэтому хрен ты ее обманешь. Она все про нас наскрозь знает, потому как знает себя. И как тебя, Пыхов, в два слова раком поставить, чтоб только пахал да помалкивал. И кого приставить, чтоб за такими вот приглядывать. Не за тем, чтоб не озорничал. Не. Чтоб пил только до полусмерти, а не вовсе вусмерть. Чтобы, значит, и дальше было с кого три шкуры-то драть…
Низкорослый, корявый Пыхов встал, медленно разогнулся, и с мертвым, ничего не выражающим лицом придвинулся к Федору. Никогда, ни к одному обидчику в детстве, ни к одному фашисту, ни к самому Гитлеру он не испытывал такой ненависти. Ослепительной, не дающей даже подумать о последствиях. Потому что никому еще не удавалось так ловко зацепить его за живое. Так только свой может, который плоть от плоти. Когда движутся так, неторопливое вроде бы движение не привлекает внимания, остается невидимым. И Федор, обычно по-волчьи сторожкий, не заметил, как блаженный соратничек подобрался к нему слишком близко. Будь градус его бешенства только малость меньше, он взялся бы за сточенную «финку», которой два года щепил лучину, кромсал хлеб и вскрывал банки с американской тушенкой. А так он только страшно, с непонятно откуда взявшейся силой, которой он и сам-то за собой не знал, ударил сидящего на корточках Хренова в скулу. А потом с рычанием вцепился ему в горло мертвой хваткой.
– Вот здесь, – капитан, щурясь от дыма причудливо закушенной «беломорины», косился в текст протокола, – Пыхов Василий Иванович, рядовой, беспартийный, указывает, что ты, Хренов, злостно клеветал на колхозный строй, утверждая, что: «Все колхозное крестьянство – это те же рабы, а руководство – те же баре, только хуже, потому что больше из трудящихся выжимают соку». И что: «Немцы – невпример лучше нашего живут, потому как без колхозов, и в гробу видали наше освобождение». И что «Фашисты – они только чужих гнули, а своих мужиков берегли, а наши только своих гнуть и умеют». Это какие такие «наши», Хренов, а? Че молчишь-то? Говори, верно изложено по факту, иль нет? Может оклеветал тебя придурок Пыхов, напраслину возвел? Так и есть? А вот теперь скажи мне, умник, – хоть один человек в это поверит? Ну ладно, я поверю, должность у меня такая, советским гражданам верить, – а еще найдется хоть один? А соратник твой, на вопрос о причинах своего странного поступка сообщил, что подумал, будто ты «немецкий шпион, из власовцев или еще какой предательской сволочи, и решил тебя задержать, пока не ушел». Понимаешь, Хренов, он, сдуру, такую подоплеку подвел, такой базис с надстройкой, что трое умных не выдумают. Его пожурят, что сам полез, а не обратился в спецотдел, мне – раскрываемость и бдительность, а тебе статья за контрреволюционную пропаганду…
Федор молчал. Он лучше большинства понимал, что любые попытки что-нибудь объяснить, – мол, он вовсе и не то имел ввиду, что говорил, – только утопят его еще глубже. Да и говорить-то ему было трудно. Мозгляк Васька треснул его так, что, похоже, сломал скулу. Левую щеку разнесло так, что закрылся глаз, рот с этой стороны не открывался, а скулу дергало нудной, колющей, неотвязной болью. А еще болели два сколотых, не поймешь – как, зуба. Но куда сильнее чем они, чем даже перспектива следствия и трибунала, болело недоумение: ну не должно было такое приключиться – с ним! Наоборот должно было быть, по всему! А всего-то не сдержал говнистой натуры, оттянулся на придурке, отнял у блаженного цацку, – а жизнь-то и кончилась, и не выбраться.
Капитан окинул его оценивающим, каким-то липким взором, и вызвал караул.
– Что вы такое говорите, Энтони? Какие переговоры? Кого эти наглецы вообще представляют? Для переговоров нужны хотя бы две стороны. А я не вижу второй. А неофициально можете передать им, что они меня не интересуют. Ни официально, ни, тем более, неофициально. Что я их либо повешу, просто ради удовольствия, несмотря ни на какие выгоды, в присутствии русских, либо просто русским… передам. Как то и надлежит верному союзнику. Это, кстати, еще и ку-уда выгоднее…
– Саша, я боюсь показаться назойливым, но вернусь-таки все к тому же надоевшему вопросу. Что ви думаете об после войны, когда властям уже не надо будет столько самолетов и винтовок? А если это-таки плохо понятно с первого раза, то я еще уточню: как вы видите себя в этом интересном положении?
У Сани было свое, строго определенное мнение на этот счет, но он держал его при себе. Единственным человеком, с которым он не раз обсуждал этот вопрос, так и не придя к определенному выводу, была Карина Морозова. Больше эта тема не обсуждалась ни с кем. И уж во всяком случае, не с Яковом Израилевичем. Нужно твердо знать, кому из подручных – что поручить, и с кем – что можно обсуждать, а что – не стоит. Поэтому он никак не показал, что понял вопрос.
– А что мне остается делать, дядя Яша? Только ждать, во что это выльется, и надеяться, что, может быть, еще пригожусь.
– Саша, – задумчиво проговорил Саблер, – ви знаете себе, что такое война? Если думаете, что «да» то сильно ошибаетесь, а я-таки скажу то, что надо знать именно вам. Война это не только много крови и горя. Не только неаккуратное обращение с имуществом и большой беспорядок в делах. Это еще и прискорбное падение нравов. До войны женщина, которой случайно залезли под юбку, шла в полицию, а во время войны она рада уже тому, что осталась жива, не слишком помята, и ей не порвали чулки. За красивое хулиганство до войны давали по морде и срок, а за то же самое в чужом тылу дают цацки на грудь. Начинается война и людям вдруг говорят, что убивать и грабить хорошо, а некоторых даже за государственный счет учат делать поджоги и фальшивые деньги.
– Ты это к чему?
– Я это к тому, что после войны начинается-таки наоборот. Власти уже не хотят красивого хулиганства а начинают хотеть, чтобы таки был порядок.
– Короче, – ржаво проскрипел Берович, приподнимая враз отяжелевший взгляд, – а то у меня нет времени.
– Ну, если уж совсем коротко. Если для вовсе деревянных бакланов, то ты, Саня, вор. Статья такая: нецелевое расходование фондов. У всех директоров оно было и есть, ни одного не покажешь, чтоб не было, но ты – особая статья. У тебя куда ни ткни, – попадешь в нецелевое. У тебя сплошь – нецелевое, это целевого у тебя шиш, да маленько. Тебя посадит самый сопливый следователь, и ему даже не надо будет ничего копать. Выделили на что? А потратил – на что?
– Да уж я-то, кажется…
– Когда ты будешь, – не дай Бог, конечно, но по-другому я не вижу, – сидеть напротив следователя, а того сопливого, за которого я говорил, тебе не дадут, и не надейся, ты увидишь, что русский язык – не один. Ты говоришь следователю, – а он тебя не понимает, и это-таки ладно, но еще он тебя понимает совсем не так. И говорит тебе совсем другие слова, а ты в толк не возьмешь, откуда он их взял с твоего же рассказа. Хотя ты, может быть, и понимаешь, поскольку таки-перекинулся парой слов со Львом Захаровичем, но зачем-то ломаешь комедию…
Вождь и Учитель читал сводки. Это была целая папка донесений, талантливо обработанных и тонко отнесенных к одной теме. Тема была такова, что о самом существовании ее надо было додуматься. Не говоря уже о том, чтобы разобраться, что к ней относится, собрать воедино, – не упустив при этом ни единой мелочи! – и при этом не сунуть в общую кучу НИЧЕГО лишнего.
«…Слухи о том, что после войны колхозы будут распущены, вообще чрезвычайно распространены среди фронтовиков и носят устойчивый характер. Можно даже говорить об уверенности в роспуске колхозов после победы, царящей среди широких масс фронтовиков. Особо крайние варианты высказываний в смысле: „Фашистскую вражину добьем, и за других примемся, тех кто дома…“ или: „Теперь мы знаем, куда потом повернуть винтовки…“ – и тому подобные пока встречаются, как исключение. Значительно больше распространена уверенность, что: „Товарищ Сталин разобрался“ – какая это ошибочная вещь, и издал приказ, который обнародуют: „На следующее утро после победы“. При этом сомнений в том, что колхозы – зло, в общем, практически, нет. С теми, кто говорит о благах и преимуществах колхозного строя, не спорят, но и не разговаривают на эту тему, переводя разговор на другое. Большой идеологический вред идет от впечатления, которое производит на солдат крестьянского происхождения культура аграрного производства в Германии, Дании, Голландии, Бельгии и т.д., урожайность, ухоженность полей, породистый скот, чистота, устроенный быт и явная зажиточность сельских хозяев…»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.