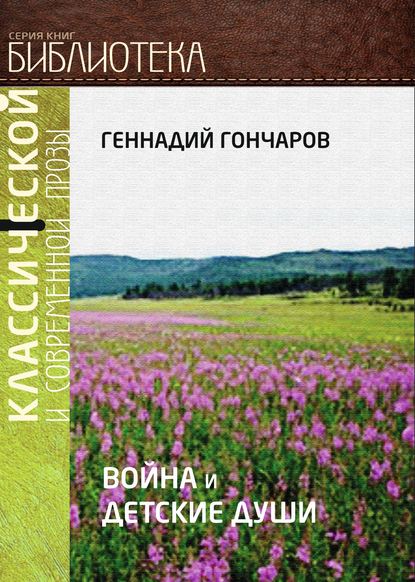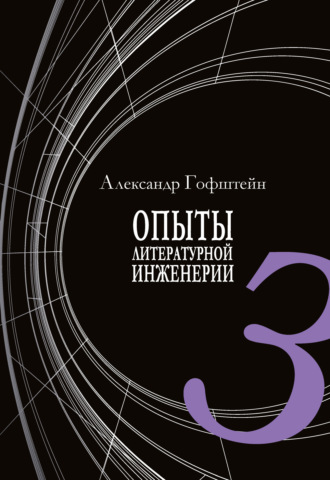
Полная версия
Опыты литературной инженерии. Книга 3
Командир с аспиранткой поднялись по трапу и вошли в салон. Освещение внутри было выключено. Свет наружных фонарей проникал сквозь иллюминаторы, ломался на спинках кресел, полз, когда неизвестный самолет передвигался по бетону то ли на взлет, то ли на посадку.
Командир знал свой самолет до последнего винтика и любил его, как ребенка. В компании знали, каким сверхъестественным чутьем машины он обладал, каким по-кошачьи пластичным становился лайнер в его руках. На взлете он не отрывался от полосы, а просто становился невесомым. Он не плюхался на бетон при посадке, а съезжал по студеным струям атмосферы, как по ледяной горке, и касался полосы всеми колесами шасси одновременно, мягко и неощутимо. Даже реверс при торможении вкрадчивой львиной лапой замедлял бег машины, не причиняя пассажирам ни малейшего беспокойства. Это был настоящий Мастер, скромный, но знающий себе цену.
Сейчас в пустом салоне его самолета с ним была девушка из другого, непривычного ему мира, которой он любовался как ночной фиалкой, не совсем понимая, что она здесь делает. Кажется, они разговаривали. А может быть, и молчали. Кто теперь вспомнит? Тося и Фрося, наверное, что-то кому-то сказали, так как к самолету никто не спешил, входной люк оставался распахнутым, а трап не отъезжал.
Появление дополнительного угла в устоявшейся геометрической конструкции обе стюардессы почувствовали сразу. Ни малейшего колебания воздуха, ни двусмысленного взгляда, ни намека. Но в том, что командир отдалился на предельную дистанцию прямого выстрела, девушки не сомневались.
Он оставался таким же внимательным к своему экипажу, таким же веселым и внешне беззаботным. Но в его глазах застыл вопрос, на который, судя по всему, привычно четкого ответа не было.
В ночном горячем зарубежном аэропорту впервые за последние годы в самолете обнаружилась какая-то пустяковая неисправность. Рейс отложили, а лайнер отбуксировали на ремонтную стоянку. Самолет стоял с откинутыми створками люков и капотов, потерявший обтекаемые очертания, какой-то беззащитный, как прилюдно раздевшийся человек. Под капотами змеились сотни трубопроводов и километры проводов, дополняя картину почти анатомической расчлененности машины. Вокруг самолета теснились решетчатые лесенки, площадки и подставки, копошились техники. Их фонари вспыхивали и гасли, заслоненные створками или деталями. Командир, как всегда решительный и собранный, перемещался от одной группы техников к другой, поднимаясь по ступенькам смотровых площадок, заглядывая внутрь механизмов, обмениваясь с техниками короткими фразами по-английски.
Обе стюардессы стояли высоко наверху, у открытого люка, и смотрели на своего командира с плохо скрываемой грустью. Их вожак, который находился в каких-то десятках метров от всегда гостеприимного люка, незримо для всех, кроме них, удалялся в никуда, хотя внешне для такого вывода не было никаких оснований. Есть такое чудо – женская интуиция. Для нее нет научного объяснения, но она – непреложный факт. Обе девушки не сговариваясь вошли внутрь самолета, потому что продолжать эту пытку было выше их сил.
Самолет взлетел с задержкой в полтора часа. Полет, как всегда, проходил в штатном режиме. Посадка на родном поле была столь же безукоризненна, как и прежде. Подхватив портфель с документами, командир подмигнул обеим девушкам, провожавшим его на верхней площадке трапа, и, бодро прогрохотав каблуками по ступенькам, подошел к ожидавшему его микроавтобусу. Уже раскрыв дверцу, он обернулся, чего за ним никогда не водилось, и помахал стюардессам рукой.
В скромной по московским меркам квартире на улице маршала Жукова, где даже трехслойные стеклопакеты плохо спасали от назойливого жужжания автомобильной реки, командир чувствовал себя пиратским бригом, укрывшимся от тайфуна в укромной бухте. Его холостяцкое гнездо, расположенное на другом конце города, хотя было и более изысканным по форме, но проигрывало по содержанию. Здесь – это было «здесь». А там – оно и было «там». Не было никакого утомительного полета, не было ремонта в чужой стране всего три часа назад, не было ничего «до». Существовало только «сейчас», и замирало сердце от «потом».
Командир бывал здесь достаточно редко. Хотя хотел бы, чтобы было наоборот. Что-то удерживало его от настойчивости в визитах, несмотря на понимание, что его здесь ждут с открытым сердцем.
Они умостились вдвоем в громоздком кресле, с которого ковровое покрывало вечно норовило сползти на пол. В телевизоре перемигивались неразборчивые картинки, за окном, как тогда, в самолете, двигались плоские лучи света от проезжающих машин.
Она всегда с замиранием сердца ждала этих последних минут. Волнение мешало дышать, мешало понимать и чувствовать. Ей хотелось глубже осознать происходящее с ними. Ей страстно хотелось раствориться в нем, улететь с ним. Не на его самолете, а древним способом левитации, которую никто не признает, но никто и не опровергает. Она была ласковой, покорной и слегка недоумевающей. Была такой всегда. Но не сегодня.
Она не узнавала себя. Не осознавала внезапной перемены сути своего существования. Странные видения роились в ней. Яростная магма расплавила земную кору. Плевать, что квартира находилась на пятом этаже – языки бешеного пламени лизали бетон перекрытий прямо у них под ногами. В адском вихре рождались невиданные силы и неземное вдохновение. Она, только она сейчас владела Вселенной! Ни Бог, ни дьявол не смогли бы даже на мгновение разлучить ее с любимым! И потоп, и землетрясение были бы сейчас бессильны: наконец-то, слившись воедино, они мчались сквозь бездну миров, становясь причастными к великой тайне сотворения жизни.
Ранняя осень бросила на городской асфальт первые желтые листья. В небе добавилось прозрачности. Реже стали появляться кучевые облака. Полеты в условиях хорошей погоды проходили исключительно гладко, по высшему стандарту. По салону двигались две опрятные девушки в синей униформе, с кокетливыми пилоточками, надетыми слегка набекрень. Это были другие стюардессы. Милые, приветливые, но другие.
Как-то случайно из мягкой глубины белой, как арктический снег, спортивной «Ауди-ТТ» та, первая, увидела своего командира, выходящего из кафе под руку с девушкой. Первая сразу поняла, с кем именно. Она, нахмурившись, проводила взглядом красивую пару и чересчур резко нажала на педаль акселератора.
Затем и вторая, но из ярко красной, как грех, «Феррари», увидела их, стоящих у пешеходного перехода около Большого театра. За рулем сидел молодой человек. Он внимательно следил за дорогой и не заметил, как его спутница внезапно наклонила голову и прикусила губу.
Как-то утром, перед полетом, на обязательном медосмотре, врач слегка придержала руку командира. Она вторично посчитала пульс, потом предложила ему раздеться. Слушая фонендоскопом сердце пилота, она непроизвольно любовалась его фигурой, загаром и яркой мужской статью. Она подписала разрешение на полет, но дополнила осмотр предложением завтра же забежать в медчасть и сделать кардиограмму. После ухода командира она подошла к окну в непонятной тревоге, причину которой она пока не могла откопать в пухлом ворохе своих медицинских познаний.
Небывалая засуха породила жажду и голод. Стада стремительно уходили по резервным маршрутам на поиски непересохших рек. Львы не поспевали за травоядными. Вопрос удачной охоты становился вопросом жизни или смерти. Обычно львы не нападают на слонов. Олигархи саваны значительно превосходят их силой. Но голод кого угодно толкнет на отчаянный поступок.
В поздних сумерках львы окружили одинокого слона. В темноте им было гораздо виднее и сподручнее. Первая львица прыгнула на слона сзади и наживила его на стальные когти. Слон побежал, бестолково размахивая хоботом и отчаянно трубя. В его поведении отсутствовала логика. Наверняка, развернись он в атаке, даже озверевшие от голода львы разбежались бы, предпочитая медленную смерть мгновенной. Но слон не мог противопоставить системе охотников систему охотника на охотников. Олигарх вынужден был суетливо спасаться бегством, в котором он, впрочем, тоже уступал львам. Он уступал силе, которая к тому же и власть. Вторая львица сменила первую, которая хоть и ехала верхом на слоне, но энергично расходовала силы в попытке удержаться и прокусить толстую шкуру. Запугивающий слона рычанием вожак, который трусил рядом с ним и до этого момента не принимал участия в нападении, внезапно в виртуозном прыжке взлетел прямо на голову несчастного слона и вгрызся ему в холку. Слон зашатался и упал, подняв облако пыли. Хорошо, что из-за этой пыли не было видно, что происходило на земле дальше.
Потом пришла долгожданная гроза. Она смыла следы ночного убийства, дала новую силу траве и деревьям. Но не пощадила вожака. Он лежал под дождевыми струями, неподвижный и холодный, сраженный молнией прямо под засохшей акацией.
Львы, сами постоянно творящие смерть, боязливо уходили прочь. Молодые львы еще ни в чем не были до конца уверены и на всякий случай привычно держались от львиц на расстоянии.
Она ждала неделю. Так надолго отсутствие командира никогда не затягивалось. Телефон на столике в прихожей звонил по всяким пустякам. Но нужного звонка не было. Наконец, она решилась. Бездействие стало невыносимым. Она набрала номер, и каждый гудок на другом конце провода убивал в ней надежду. После пятого гудка трубку сняли, и доброжелательный и участливый голос рассказал ей, как все произошло. И даже подсказал, как ей к нему пройти.
Она поймала частника и, не договариваясь об оплате, поехала туда, куда ей сказали по телефону. Венки, которых было множество, уже успели привять. Тем более, что вчера прошла гроза. Черные ленты слиплись и завернулись так, что надписи читались с трудом. На одной она разобрала «… авиаотряда …», на другой – «…му командиру и другу. От экипажа Ил-…».
Она не плакала. Она просто не могла плакать. Это была такая несправедливость, такая несправедливость! То, что он не погиб в катастрофе или не был затравлен долгой болезнью, могло служить лишь слабым утешением.
Практикум по теории относительности
Сегодня вечером возвратились домой жена и старшая дочь, похваляясь, что на Тверской, в баре с непроизносимым названием, отведали суши. Такой восторг! Не представляю, как только я посмел прожить столько лет и не попробовать суши? Теперь в глазах ближайших родственников я – унтерменш, недочеловек, ущербная личность.
Посетовав на несправедливость судьбы, я вспомнил один случай, который произошел со мной много лет назад и в рыбно-экзотическом смысле уже может считаться образцово-поучительным.
Наша диверсионная группа состояла из пяти человек. У каждого свои обязанности, у каждого свой сухой паек. Спим под кустом, палатки у нас нет, костер разводить не имеем права. И вообще, никоим образом не должны себя обнаруживать. Это условия учений. Лес вокруг во все стороны – березы и сосны. Ближайшая деревня от нас километрах в десяти.
На третий день съели мы свой сухой паек до последней крошки. Какие бы проблемы у нас ни возникли, не имеем права выходить на связь раньше условленного времени. Вот так и сидим, несытые и надутые от голода. Так разобиделись на начальство, что даже вслух ругать их не хотелось. Боевых патронов у нас нет. Но и никакой живности мы, по правде, за последние дни не заметили.
Наконец, пришло время связи. Условие сеанса – текст не более десяти секунд и только по делу. Включаем станцию – связи нет. Пищит что-то в эфире, воет. Скрип стоит тележный. На восьмой секунде прорезался марсианский голосок:
– Для «девятого» база на связи.
Радист аж поперхнулся от злости. Еще секунда пропала. Потом он как заорет в микрофон:
– Жрать нечего!
И отключился. Я имею в виду, вырубил радиостанцию.
Что делать дальше, понятия не имеем. Но сидим в лесу как привязанные. До следующего сеанса связи еще целых три дня. И, между прочим, есть кое-какое задание, которое надо выполнить. Вот уж это совсем не хочется делать на голодный желудок.
Подрывник первый высказал предположение, что здесь какая-то ошибка. Могли ведь нам запросто вместо шестидневного пайка выдать трехсуточный?
Снайпер кашлянул и спросил, обращаясь ко всей группе:
– А может быть, наш паек и есть шестисуточная норма?
Группа в ответ слабо возмутилась.
Утром слышим: стрекочет вертолет. Идет низко, чуть ли не по верхушкам сосен. Понимаем, что это свой вертолет. Ведь идут простые учения, а у «противника» по замыслу вертолетов нет. Но мы сидим в самой чащобе, среди комаров, нет рядом ни полянки, ни прогалинки! Пустили мы красную ракету прямо вверх, рискуя угодить в вертолет. Повезло, или пилот был опытный. Прогрохотал вертолет прямо над нами, и из него чуть ли не на наши головы вылетели три деревянных ящика. Прижались мы к деревьям и молим бога, чтобы пронесло мимо! Пронесло, но не совсем. Ящики с хрустом врезались в верхние ветки деревьев и разлетелись на части. А из них веерами вылетели блестящие консервные банки. Каждая, между прочим, по двести пятьдесят граммов нетто! Ничего себе шрапнель!
Вертолет улетел. Стало тихо. Мы наконец-то дружно выдохнули, так как на всем протяжении бомбовой атаки не могли этого сделать.
Потом бросились разыскивать добычу. Первую банку, как и положено, нашел самый зоркий из нас – снайпер. Слышим, хохочет в кустах, как сумасшедший. Подбегаем, а он слова толком вымолвить не может. Тычет пальцем в этикетку банки, источает слезы и икает. Читаем все вслух:
– «Лосось в собственном соку».
И тоже начинаем хохотать. Не иначе у нас всеобщее помешательство!
Секрет нашей неадекватной реакции объяснялся легко: в те времена редкая семья могла себе позволить достать к праздничному столу исключительно для гостей или маленьких детей этот деликатес – «Лосось в собственном соку»! О нем и мечтать было неприлично. Вроде бы как о чудесном кладе из сотни золотых монет. Я однажды попробовал это лакомство в гостях у тети, но постеснялся съесть кусочек побольше. Тетя жила небогато, и ясно было, что баночку лосося она выставила для нас на стол скорее для самоутверждения, чем для угощения.
А тут, пожалуйста, «Лосось в собственном соку» – целых три ящика!
Все коленки стерли, осмотрели каждую травинку. Собрали ящики по щепочке, уложили на обломки найденные банки и таким способом вычислили, сколько банок должно было поместиться в каждом ящике. Не хватало еще четырех. Командир группы молча обвел всех взглядом. И мы молча снова полезли в кусты. К обеду нашли все до единой банки.
Сели, роняя слюни, вокруг добычи. Командир достал штык-нож. Дружно взяли мы по банке драгоценного лосося и мигом их вскрыли. Как запахло из этих банок – описать вам не могу! Через десять секунд – время молниеносного сеанса связи – банки были пусты. Как выражаются собаководы – вычищены в «подлиз»!
– Между первой и второй пуля не должна пролететь! – прошептал командир. И вскрыл вторую банку. После второй банки мы были готовы идти выполнять любое задание Родины. Даже голыми руками. Но на всякий случай съели по третьей банке.
До вечера мы скакали по лесам, выполняя это самое задание, и к сумеркам порядком проголодались. Мысль о том, что в условном месте в лесу нас ждут чудесные баночки с замечательной едой, окрыляла нас на обратном пути.
Лосось на ужин не показался нам столь вкусным, как днем. И более того, кое-кто не смог одолеть даже одной банки. Недоеденный деликатес подвесили на ветки, подальше от муравьев, и легли спать, вполне умиротворенные.
Утром лосось просто не лез в горло. С трудом доели вчерашнее, запили водой из родничка и пошли на задание.
Возвратились вечером к месту базирования. Посидели, подумали, открыли по банке и с большим трудом проглотили по кусочку осточертевшего лосося. Командир подошел к укрытому травой складу, раздвинул траву палкой и тоскливо обернулся к нам. Банки стояли мощным штабелем – ни конца ни краю! Впервые за пять дней мы подумали о голодной смерти.
На следующий день командир принял истинно полководческое решение.
Он вручил снайперу секретную карту, компас и туго набитый вещмешок. Приказ был краток и ясен: пройти, не выдавая никакой лесной твари своего присутствия, десять километров до деревни и выменять лосося (тут командир непроизвольно икнул) на картошку. В весовом соотношении один к одному! Снайпер взял под козырек и ушел в лесную чащу. Нам оставалось только ждать. К вечеру пришел взопревший, но не голодный снайпер и принес долгожданное: из рюкзака на траву вывалилась целая гора прекраснейшей в мире белорусской картошечки!
– Все относительно, – сказал мудрый Эйнштейн и был прав.
Приобщение
Вот так он и дожил до сорока лет. На семь лет пережил Христа. И решил сделать обрезание.
Фамилия у него была Фришберг, что переводилось довольно загадочно. Как «Свежая гора» или «Горная свежесть» – черт его знает. А звали Петя.
У него был друг-хирург с фамилией Гольдберг, что подтверждало правильность выбора.
Приняв решение, Петя позвонил Гольдбергу и заявил о своем желании упрочить свою принадлежность к иудаизму, в котором он ровно ничего не смыслил.
Гольдберг, что переводилось как «Золотая гора», ответил в трубку с легким коньячным акцентом:
– Нет проблем. Приходи в субботу. Я дежурю. Все обстряпаем в лучшем виде!
И надо ж – такое совпадение! В субботу, и в самый Песах, еврейскую Пасху, поплелся Петя на обрезание. Давши слово – держись. Ему было неудобно перед Гольдбергом, которому он таки дал обещание прибыть ровно в десять.
Гольдберга на месте не оказалось. Зато был его ассистент – Хабибуллин. Черт его знает, как это переводится с татарского.
Петя назвал свою фамилию. Хабибуллин пожал плечами. Петя уточнил, что он договорился с доктором Гольдбергом об обрезании. Хабибуллин заулыбался:
– Конечно, конечно. Доктор мне говорил. Все обстряпаем в лучшем виде!
Петю отвели в операционную и обмазали причинное место йодом.
Хабибуллин постоянно куда-то исчезал, так что Петя тосковал на топчане, имея все, измазанное йодом.
Наконец, Хабибуллин появился прочно и привел с собой маленького молодого узбека. Фамилии не помню.
Узбека Хабибуллин представил как практиканта, для которого эта пустяковая операция должна быть практическим пособием.
Петя не возражал. Он замерз в холодной операционной и весь скукожился от йода.
Во второй главе Книги Бытия сказано: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Сказано – нельзя работать в шабат, то есть в седьмой день недели – субботу, значит, нельзя! Ибо в этот день по определению ни хрена толкового не должно получиться!
Врачи принялись за дело. Хабибуллин надел очки. Работали в четыре руки. И все обмотали бинтом до неприличных размеров.
С трудом втиснувшись в джинсы, Петя поехал домой на метро, потому как управлять машиной в бедственном состоянии был не в силах.
Через день он пришел на перевязку. Все трое были на месте. Гольдберг мыл руки и напевал про очи черные. Хабибуллин ел колбасу на подоконнике. Узбек сидел на корточках под кварцевой лампой.
Петю разбинтовали в четыре руки. Подошел улыбающийся Гольдберг и перестал улыбаться.
Петя посмотрел вниз и обмер: складки кожи были подшиты в противоположных направлениях, таким кандибобером, что образовали какое-то подобие восьмерки или самолетного пропеллера.
Хабибуллин снял и начал протирать очки. А узбек к уда-то ушел вместе с кварцевой лампой.
– Да, – после долгой паузы вымолвил Гольдберг. – Повезло-таки твоей жене!
Коньяк, который Петя принес в газетной трубке, выпили вчетвером. Потому как пришел молодой узбек и принес кварцевую лампу. Закусывали остатками колбасы Хабибуллина. Колбаса была противной, с большими кусками сала. Хабибуллин сказал, что колбаса конская.
Петя шел к метро и плакал. На машине в бедственном состоянии он ехать был не в силах.
В шабат – еврейскую субботу, в самый Песах – великую еврейскую Пасху, приобщился Петя Фришберг к таинствам иудаизма. Ни черта он в иудаизме так и не понял, как ни черта не смыслили в исполнении обряда обрезания татарин Хабибуллин и молодой узбек. Фамилии не помню.
Про кота
Про кого я вам сейчас расскажу! С виду кот как кот, но непростой, ох, непростой!
Внучка моего друга решила сделать дедушке подарок. Так сказать, преподнести. Маленького рыжего, с бесстыжими зелеными глазками. Сама же и имечко ему придумала – Ластик. Не в смысле резинового приспособления для стирания карандашных каракуль, а вроде бы как он ласковый котенок и вполне себе ручной. Ручной – в смысле себе. А не деду и остальному человечеству.
Друг мой – человек высокообразованный и интеллигентный. Принял подарок с присущей ему благодарностью во взгляде и во всем поведении. Котенка Ластика определил на жительство, выделил причитающиеся ему квадратные метры и приобрел в специализированном магазине горшок в виде пластиковой кюветы с поглотителем нежелательных кошачьих ароматов. Зажил Ластик как сыр в масле, благо жена друга – Валя, женщина добрая и уважающая интересы мужа.
Котенок не заставил себя упрашивать, быстро вымахал в хищного котяру, вполне себе полосатого и не совсем ласкового. Знаете, как это у нас, у людей: приживешь какого-нибудь монстра, привяжешься к нему, прирастешь душой… И терпишь его дурные выходки себе в ущерб и иногда даже на погибель.
Сначала Ластик определился с географическим суверенитетом. Письменный стол, где друг Эдик располагался с научными целями, на котором стоял компьютер с подведенным интернетом и лежали важные бумаги, сделался его вотчиной и барской усадьбой. А Эдик пристроился с краю то ли приживальщиком, то ли холопом. Прекрасно разбираясь в электротехнике, хотя никто не видел, чтобы он заканчивал какие-нибудь университеты, Ластик не покусился на провода под напряжением, а сознательно перекусил провод от компьютерной мыши, а затем кабель выделенной линии интернета. Потом на всякий случай пометил монитор, что дало повод Эдику первый раз за всю короткую биографию кота дать ему по ушам сложенной газетой. Через неделю после отгрызания провода к звуковым колонкам Ластик перестал пугаться газеты, а только ехидно щурился и ловко уворачивался от не очень проворного экзекутора.
На кухне у Вали лет так уж двадцать росло ухоженное алоэ, регулярно поливаемое хозяйкой и радующее обитателей квартиры. Кто пробовал алоэ на зуб, тот знает, что после дегустации во рту остается неуемная горечь. Ластик начал жевать листья алоэ на третий месяц после поселения. Причем на его морде, как у истинного самурая, не отражалось никаких вредных эмоций. Эдик и Валя дивились и гадали, каких таких витаминов не хватает подрастающему кошачьему организму? Покупали ему дорогостоящие заграничные яства, советовались по Скайпу с фелинологами из столицы. Загадка извращенного вкуса котяры не разгадана по сей день. А долготерпение Вали стоило жизни роскошному алоэ, от которого остался торчать из вазона уродливый изжеванный хвостик.
В комнате у Эдика прекрасная подборка минералов. Этой коллекции Эдик посвятил две трети жизни. В ней каменные красоты со всего мира! Эдик сам сконструировал полочки, сам сверлил стены жилища, вставлял в отверстия дюбели и вворачивал надежные шурупы. То, что, не своротить трактором, оказалось по силам коту. Теперь Эдик думает, как вставить в стены сквозные анкеры, а особо ценные кристаллы закрыть колпаками из оргстекла.
– Слушай, – говорил мне Эдик, – я уже целых полгода не сплю как человек. Эта сволочь поднимает меня в четыре часа утра и требует пожрать. Он поест, а потом настаивает, чтобы я его развлекал. Если я против, он кусается.
– А газетой? – попытался уточнить я.
– Газета давно его не берет, я тебе говорил. Ты забыл. Луплю его тапком, но теперь и тапок ему нипочем. Раньше страшно боялся пылесоса. От одного вида пылесоса его мутило. А сейчас хоть бы что – на включенном пылесосе может спать. Адаптировался. Свернул, сволочь, позавчера ночью очередную полку с камнями. Грохот был такой, нам с Валей показалось, что началась третья мировая война. Сосед по лестничной клетке прибежал в одних трусах с охотничьим ружьем, подумал, что нас грабят.
А вчера собираюсь на работу, как всегда не выспавшийся, забыл прикрыть окно. Из коридора слышу – царапнули когти по металлу. Этот… вылез на подоконник, потом на карниз и улетел к черту с четвертого этажа. У нас, ты же помнишь, внизу сплошной асфальт. Я лечу вниз по лестнице, а под окном никого. Жалко кота все-таки, какой ни есть, мерзавец! Нет его и за домом: я два круга сделал. Бегу домой, рассказываю Вале все как есть. А она на меня сердится, обвиняет не в рассеянности, а чуть ли не в умышленном убийстве. Между прочим, это была ее несбывшаяся идея кастрировать кота после случая с монитором. В общем, некогда мне, опаздываю на работу. Убегаю, оставляю жену при свершившемся факте. А ей с утра надо в поликлинику, заранее записалась. Она плюет на поликлинику, то есть на свое здоровье, и бегает вокруг дома. Нет кота, нигде нет! Звонит мне на мобильный, а я еду в автобусе и ловлю себя на мысли, что вроде бы чувствую некоторое облегчение. Ты пробовал каждый день вставать в четыре утра? Причем, я считаю, совсем не по уважительной причине. Капризного кота кормить – это тебе не корову доить! Красное куриное мясо он, видите ли, не ест. Подавай ему только белое! И недопитое молоко не дай бог, чтобы лишний час простояло в миске! Ни за что допивать не станет, сволочь, даже если будет подыхать от жажды! Рыбу положьте ему свежую, чуть ли не из пруда. Правда, если уж сосиски забракует, то есть их людям категорически тоже нельзя. За это ему большое человеческое спасибо. Только благодаря ему мы исключили из покупаемых продуктов некоторые сорта колбас и сосисок.