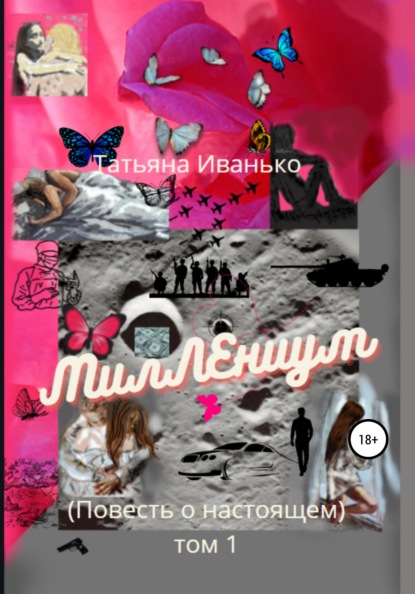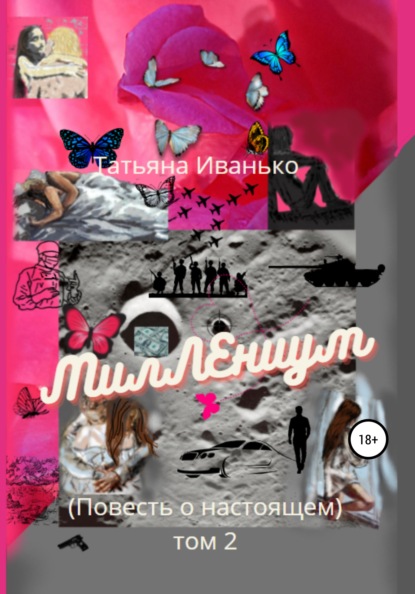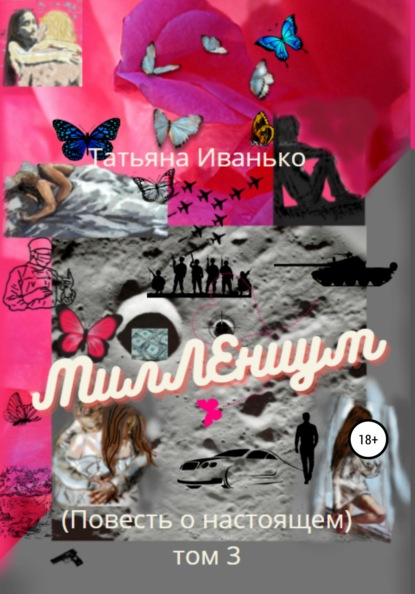Полная версия
МилЛЕниум. Повесть о настоящем. Том 5
– Из Москвы к нам? Что это в глушь такую занесло вас?
– Жене нравится в глуши, – не задумываясь, ответил я, легко, потому что это правда.
Она не поверила, конечно, но не сказала ничего вслух. Вторая, молодая медсестра мгновенно состроила мне глазки.
Пока мы переходили из корпуса в корпус, привезли пациента в открытым переломом руки, его уже готовят к операции, пока мы «мылись», анестезистка и операционная медсестра уже всё сделали без проволочек.
Николай Николаевич полностью доверил мне оперировать, а сам лишь ассистировал мне, очевидно, желая понаблюдать, что я за «фрукт», как он сам сказал мне после операции:
– Я думал, погнали вас как безрукого из Москвы, а вы… – сказал он, когда мы размывались, говорит и смотрит на меня не так как два часа назад. – Я не видел, чтобы кто-то так работал… чтобы такие руки… Алексей Кириллыч, вы там, в Москве… вы же кандидат, чего уехали, правда?
– Семейные обстоятельства, правда, никаких подводных камней, Николай Николаевич.
– Семейные… ну-ну… бывает… загулял с какой-нибудь сестричкой, а жена прознала, так? – он усмехнулся. – Дети-то есть?
– Сын, – кивнул я.
На том и оставили меня в покое, все удовлетворились такой легендой…
После работы я пошёл в Силантьево. Обедом меня накормили, как и всех в больничной столовой, действительно вкусно. Скудная, но здоровая и хорошо приготовленная еда только радует и желудок и повышает настроение, к тому же придаёт сил и лёгкости. Дорогу от Новоспасской больницы до Силантьева, незнакомую для меня, и из-за заносов оказавшейся дальней и трудной, я преодолел за полтора часа. Пришлось несколько раз спрашивать у редких встречных прохожих, к тому же я сбивался несколько раз, потом что тропинку занесло и если бы не просёлок, по которому через лес проехали несколько раз какие-то автомобили, я вообще сегодня дороги бы не нашёл.
Зато теперь я запомнил её со всеми подробностями, и повороты у раздвоенной сосны, и потом, у колодца-журавля, и развилку, где одна, левая дорога ведёт к Григорьеву, а другая к Силантьеву. Вот и дом, свет горит в окнах, уже сгустились в тёмно-серый ранние зимние сумерки, дым из трубы, у ворот машина отца, здесь был тупик, дальше этого дома дорога не шла, поэтому он оставлял её у ворот, не въезжая во двор. Но сегодня он явно недавно приехал – это по следам его машины я, оказывается, шёл последние двадцать минут. И саму машину едва припорошил снег и оставленную ею колею.
Шёл я быстро и к тому же намаялся с сугробами, поэтому не замёрз, но подходя к дому, с радостью смотрю на его золотые окна. Я постучал в незапертую дверь…
Капли крови на белом снегу,
Вы похожи на бусины,
Замерзаете разом.
Самую горячую кровь снег остужает вмиг,
Превращается капля в круглый камешек мёртвый…
Красная в белом,
Кровь на снегу не меняет цвет.
Красная в белом так страшно красива,
Застывшая навсегда,
Ты не жизнь теперь,
Ты уже смерть.
Кровь на снегу,
Страшная красота…
Но может ли быть страшною красота?
Страшно то, что пугает нас.
Смерти боимся мы все,
Поэтому так страшна кровь на снегу – Свидетельница смерти,
Вестница смерти.
Прикрой метелью, Боже,
все эти капли крови на снегу.
И пусть не будет новых впредь.
Нам никогда бы их не увидеть…
Глава 3. Как дорого стоит ложь…
Я никого не застал дома. Ни Лёли, ни Мити. Печь почти остыла, и я растопил её, дом разогрелся. Сколько их нет? Достаточно давно, если выстыл дом, Лёля бы не допустила такого холода. Меня не было три дня, невозможно было выбраться из Москвы из-за страшных заносов и пробок.
Я поехал наутро с Арбата, но вынужден был вернуться, даже не выехав за пределы Садового кольца. На другой день я вернулся уже с Ленинского проспекта, где простоял больше трёх часов, заносимый снегом, а потом появился автомобиль ППС и громкоговоритель объявил, что дорога закрыта из-за аварии и не откроется до утра. Было позволено пересечь двойную сплошную для разворота обратно в центр.
И только сегодня я доехал за пять часов. Дом был пуст, Лёлин телефон не отвечал все эти дни, связь вообще плохо работала, мне был только один ответ всё время: «телефон абонента выключен…» я нашёл её давно разрядившийся телефон здесь, в доме, на столе в большой комнате. Где они?
Я позвонил Сверху. Вот он ответил.
– Лёля у меня. И Митя тоже, конечно. Она просила передать, что уходит от тебя ко мне. Сказала, что… – дальше он говорит, будто читает по бумажке: – жить в деревне очень романтично, но не всю жизнь, не для того она поступала в институт и училась, чтобы из Москвы… ну, ты понял…Да, ещё… Она сделала аборт… – и добавил после паузы: – Сочувствую, Легостаев.
Я онемел и ничего не сумел сказать. В этом онемении и даже оцепенении и застал меня Алексей, вошедший в сени и заглядывающий в комнату, постучав в дверь:
– Что так тихо? Будто вымерло всё… Добрый вечер, – он смотрит на меня, улыбаясь, румяный с мороза, снимает за порогом и шапку и куртку, охнув, увидев, сколько снега на них, вышел в сени назад, чтобы стряхнуть…
Вымерло… то-то, что вымерло. А у меня дыхания нет, даже чтобы говорить…
– Ты как здесь… на чём? Поздно уже, как возвращаться будешь? – всё же спросил я, когда он снова вошёл уже раздетый и подошёл к печи, прижимая руки к её белёному боку, а я смог вдохнуть…
– Где все-то, спят, что ли? Здоровы? Рановато для сна вроде…
Я смотрю на него:
– Нет их.
– Где они? Случилось что? – ещё не чувствуя дурного, спросил Алёша.
Я смотрю на него и понимаю, что если бы он не пришёл, я… я умер бы. И будто это было уже: Алексей пришёл, а Лёля ушла…
– Мне кажется или у меня дежа-вю… Лёля ушла к Стерху.
– Как это может быть? – Лёля моргнул, опустив руки. – Вы же… ты сказал…
– Она избавилась от ребёнка и ушла к нему…
Алёша, бледнея, усмехнулся странно и покачал головой:
– Пап… этого не может быть. Что угодно, но… Бред собачий… Что случилось? Объясни нормально!
Я посмотрел на него:
– Нормально… Я считал, она от тебя никогда не уйдёт, потому что я знал… всегда знал и знаю, что она любит тебя…
– Не может этого быть… это стервец этот придумал, Стерх, Лёля избавилась от ребёнка?!.. Ты что, не знаешь Лёлю?! – воскликнул он.
– Очевидно, мы оба её не знаем… здесь нет её документов, некоторых вещей, но их у неё вообще ведь немного…
– Пап, это бред… – говорит Алёша, – понимаю, ты сейчас… в общем, этого быть не может. Что-то другое случилось. Может, он похитил её и Митю, с него станется, с бандитской морды…
Тут мы услышали стук открывшейся входной двери, дверь в комнату тоже открылась, заглянул Стерх с Митей на руках:
– Ребёнка возьмите, я в снегу весь, пока через двор шёл… Почистить дорожку вам, белоручкам невместно? – рокочущим голосом проговорил он, как ни в чём, ни бывало.
Алёша подхватил Митюшу вялого и сонного в толстом комбинезоне и шапке. Сам Стерх раздеваться и проходить не собирался, остановился за порогом, в сенях, только куртку тряхнул, смахивая снег, но её, он, видимо, набросил только, чтобы пройти через двор по морозу и метели.
– Что уставились-то? – сказал он. – Лёлю не ждите, с Митей буду приезжать видеться, как и раньше, а Лёля со мной.
– Где сейчас Лёля? – спросил я.
– Как она могла Митю вернуть нам, а сама остаться… Чё ты несёшь? – вмешался Алексей, продолжая держать ещё одетого Митю.
– Мы улетаем завтра на Мадейру. Ей надо… отдохнуть… после аборта… – сказал Стерх, без тени смущения произнося это слово, от которого у меня мороз по коже… – И вообще от вас двоих, м…ков. Так что, понянчите сына, пока нас не будет.
– Куда вы улетаете, все рейсы задержаны, коллапс во всех аэропортах! – Алексей, прищурив веки, смотрит на него: – Где Лёля, сволочь?!
– Я за «сволочь» тебе зубы выбью! – прорычал Стерх, сверкнув на него глазами. – Мы из Пулкова полетим завтра вечером, если тебе интересно, а сутки побудем в Северной Пальмире… – и усмехнулся, очень довольный собой: – Не расстраивайтесь, докторишки, женщины любят богатых и удачливых, а не тех, кто выпал из обоймы. Счастливо оставаться!
С этими словами он вышел. Мы с Алёшей смотрели друг на друга в полном недоумении, потом Алексей, побледнев, сделал шаг ко мне:
– Раздень уже парня! – он отдал мне Митю и бросился вслед за Стерхом.
Но я последовал за ними во двор. Алёша несётся за Стерхом, поскальзываясь и падая:
– Стой! Где Лёля?! – закричал он, прикрикивая ветер, сквозь густой снег.
– Не понял что ли? – Стерх обернулся уже у своей машины. – У меня дома Лёля! Во сне её увидишь теперь, рыжий!
– А ну стой! Что ты врёшь мне, слова правды не сказал, сука… Где ты запер её?! – Алёша подбежал уже к самой его машине, но Стерх оттолкнул его с силой и Алёшка полетел в сугроб, пока он выбирался оттуда, Стерх уже, взметнув колёсами два веера снега, выехал из нашего тупичка.
– Папа пай… – тихо говорит Митя. – Киюска, папе бой?
Мы вместе смотрим, как Алексей выбрался из сугроба весь белый, густо облепленный пухлым снегом как ватой.
– Нет, папе не больно, ты не бойся, малыш. Вон он идёт к нам, – успокоительно сказал я.
– Папа… – тихонько произносит Митя, глядя как тот отряхивает снег.
Я посмотрел на малыша, а ведь у меня есть, у кого спросить, что же случилось здесь:
– Митюша, где мама? – спросил я самого правдивого свидетеля, какой только может быть.
Он вздохнул серьёзно:
– Мама забое, – у него делается такое личико, что я понимаю, что он сейчас заплачет.
Мы все трое вернулись в дом, молча раздели, начавшего хныкать Митюшку, едва сняли комбинезон и шапку, он попросил пить и жадно, обливаясь, выпил полстакана воды, после чего окончательно осовел, и Алёша, выпросив у меня, отнёс его наверх, уложить в кроватку…
Как дорого нам стоит ложь чужая,
Какой дешёвой представляется своя.
Мы лжем, как дышим, и, не замечая,
Что ложью отравляем даже Небеса.
Мы лжём любимым, чтобы лучше им казаться,
Мы лжём себе, для той же глупой цели.
Мы и в молитве тоже лжём, надеясь, что Он это не заметит
и всё простит, как всё прощает детям неразумным всем своим.
Мы лжём от страха,
Лжём от любви,
Для выгоды – всегда.
для выгоды никто не скажет правды.
И где остановится?
Где нам найти границу лжи?
Мы задыхаемся и топим в лжи друг друга,
Детей, родителей, и всё вокруг замазываем ложью безнадёжно.
И так, что после мы не можем верить самой чистой истине
и самой честной правде…
… – Что ж не привёз похвастать красоткой молодой? – усмехается злыми тёмными губами Мымроновна. – Не отвечает теперь? Знаешь, как говорят: «Муж в Тверь, а жена в дверь!»
Я обернулся к ней:
– Знаешь, что на этот счёт говорят старые ловеласы? – я улыбаюсь. – Лучше впятером есть прекрасное пирожное, чем одному дерьмо.
– Так я дерьмо стало быть?! – воскликнула Галина, вскипая ни того ни с сего.
– Строго говоря, тобою я ведь не одиночку угощался, а Галя? Или ты Виктора совсем сбросила со счетов?
– Ну… ты на Виктора не переводи! Нашёл соперника тоже мне! – запальчиво восклицает Галина.
Я недоумеваю уже, правда, перебрала, похоже, новая завкаф.
– Ты чего взъелась-то? Хороший вечер вроде был…
И вдруг она бросилась мне на шею, посреди метели, вьющейся над ночной Москвой это как-то особенно нелепо:
– Кирилл! Уезжаешь… расстаёмся навсегда! Я… как же так?! Кирилл! Столько лет… – неожиданно она зарыдала в голос, что называется, заголосила. Вот глупость…
– Да ты что, Галя… – я растерянно пытаюсь отвертеть её руки от своей шеи, так неожиданно она вдруг напала, что я оказался не готов ответить. Выпила лишнего, уже, несомненно.
…Моя растерянность привела к тому, что мы оказались в арбатской квартире… Галина ведёт себя сегодня, как не вела никогда, будто она курсы обучения мастерству секса какие-то абсурдные прошла или сплошь эротические фильмы смотрела в последние месяцы. Всё это фальшиво и глупо, от этого неприятно. К тому же Галина берётся ещё и за допрос: «делает тебе так твоя молодуха?», кошмар…
– Может она и красотка, но я-то в этом ас, а Кирилл? – чрезвычайно удовлетворённо она завершает свой утомительный уже марафон, чувствуя себя, очевидно, чемпионкой длинных дистанций…
Вот за это мне и наказанье теперь – скотство я так и не изжил… Конечно, можно было, наверное, отвязаться от Галины как-нибудь, но я… так было привычнее и проще. Главное – проще…
…Я встал, Митя спит, но носик сопит, простыл, должно быть… Я потрогал лоб, действительно горячий, правда, во сне не поймёшь… завтра разберёмся.
Лёля… всё могло быть, но чтобы она бросила Митю… но ведь уезжала же со мной на море…
…Солнце греет кожу, я чувствую, как пахнут, высыхая на солнце, Лёлины волосы…
– Это хреновый способ, папачи, – голос Алёши за спиной заставил вздрогнуть и пролить водку мимо рюмки.
– Ты… чёрт! – выругался я.
– Я вовсе не чёрт, я ангел-Хранитель скорее, – невозмутимо отвечает мой сын, глядя на меня от двери в кухню. – Я тебе спиться не дам, придумал тоже… тем более что ты пробовал уже… Держать надо было молодую жену, что ж ты…
– Ну… позлорадствуй теперь, в своём праве, – я сел на стул, сдаваясь, Алёша убрал бутылку обратно в морозилку, где она болталась среди мороженого мяса и ягод. – Ты тоже не удержал… – не мог не добавить я со злости, что он не дал мне выпить.
– Дурак был, вот и не удержал, и папу умного не слушал. Пока слушал, всё было… – он вздохнул и сел напротив меня.
– Как на диване спалось? – спросил я.
– А ты что, в свою постель пригласить хочешь? – засмеялся Алёша.
Но потом добавил уже без улыбки:
– Плохо спалось, но диван хороший, мысли плохие…
Я смотрю на свои руки, лежащие на столе, так же точно невольно положил свои ладони и Алексей.
– Митя сказал, что мама заболела, – сказал я.
Он вздохнул и сказал глухим голосом:
– Что ребёнка не будет, ясно, но… думаю, это был спонтанный выкидыш, вот и «мама заболела», – он посмотрел на меня.
Но я не поднял головы, как каменное ярмо придавило мне затылок.
– Это всё равно ничего не объясняет… – у меня только одно в голове: я ушёл с кафедры, уехал из Москвы… «женщины любят победителей»…
– Ты… – проговорил на это Алёша, бледнея немного, – совсем что ли? Ты Лёльку знаешь первый день?
У меня голова горит от злого тумана, что заполнил её. Ей нравится мучить меня, его, моего сына, всех нас…
– Па-ап, ты не слышишь меня? Что ещё было в последнее время? Что-нибудь, что объяснит…
– Что тут объяснять? – зло ответил я. – Это мы с тобой, два дурака, на привязи за ней, а она то с одним мужиком на море, то с другим… Хорошо три дурака, каждый на всё готов…
Алёша рассмеялся:
– Это мой текст вообще-то, надо же, как ты ослеп сразу без неё… Ты же… – но махнул рукой, решив не договаривать. – Ладно, спать пойдём, ты пока от ревности побесись до утра, а там, на растущем дне думать будем, что тут происходит и как «расколоть» Стерха. Айда-айда!
Наутро Митя проснулся совершенно больным, и это сразу повернуло мои мысли в нормальное русло. Когда я встал, Алексея уже не было дома, Митя проспал как никогда долго до десяти почти, температура поднялась до 38, он капризничал, есть отказывался, конечно. К двум пришёл участковый педиатр из Новоспасского. Осмотрел печального Митюшку и заключил:
– Ангина, страшного ничего нет, но… думаю, антибиотик надо дать, – она посмотрела на меня, молодая, усталая докторица: – больничный нужен?
Пришлось взять больничный, ведь через четыре дня мне на работу на новое место в понедельник, а кто будет с больным Митей?.. Впрочем, и со здоровым малышом быть без Лёли некому. Но… пусть выздоравливает, там приспособимся.
Беспокойство и даже страх о Мите отвлекли меня от растерянной ревнивой злости на Лёлю, от непонимания и отчаяния, которые овладели мной вчера. Но как только я возвращался к мыслям о ней, я опять становлюсь вчерашним, брошенным мужчиной, у которого отобрали и женщину и ребёнка, отобрали и выбросили из жизни во всех смыслах.
Алексей звонил часов в одиннадцать и потом вечером. Обещал приехать завтра. Я жду его. Я вообще всегда его ждал… тем более теперь, когда мы снова оказались в одной лодке. Утлой и одинокой опять.
И всё же не думать о произошедшей катастрофе я не мог. Глобальной катастрофе. Я полностью потерял свою прежнюю жизнь. Это было желанным, когда мы были с Лёлей вместе, но теперь мои потери стали страшнее в сотни раз. Я всё и оставил ради неё… Что же теперь? Что я теперь? Как мне теперь жить без неё?..
Алексей приехал в выходные. Мите стало лучше, моё беспокойство о нём отступило. Выходные мы провели вместе втроём. Уже в воскресенье вместе гуляли по прекрасным заснеженным окрестностям, похожим на сказку, Митюшка на санках, мы с Алёшей пешком, увязая в снегу. Все тропинки, по которым мы привычно гуляли с Лёлей и которые я хорошо знал, теперь стали неузнаваемы, мы угадывали их по так же сказочно изменившимся окрестностям. Мы все трое очарованы волшебной красотой зимнего леса, лугов и озёр, которые окружают Силантьево. И я, в который раз радуюсь, что мы здесь, не в Москве, где, в сердце большого города я не смог бы даже дышать сегодня…
– Не надо, пап… – Алексей посмотрел на меня.
Я понял, что он видит мои мысли на моём лице.
– Ты… не вспомнил ничего, что объяснит происходящее?
– Что я могу объяснить? Что объяснять, она бросила нас… всех троих…
Молчаливая пауза повисла надолго, нарушаемая только разговорами с Митей, его возгласами и смехом. Мы скатываем его с горки, он смеётся и визжит, радуя нас, но всё же мы решаем вернуться, боясь рисковать после болезни. На обратном пути Митя заснул и тогда мы уже не стали так торопиться, давая ему возможность поспать на свежем воздухе, тем более что он одет очень тепло и в санках укутан в меховой конверт, в котором в прошлом году его катали, когда он был ещё кульком.
– Самое странное знаешь что… – не выдержав, вслух проговорил я внезапно пришедшую мне в голову мысль. – Это то, что она… она ведь кормила Митю до последнего дня… я ещё говорил ей, беременность, тонус от кормления… и вдруг бросила даже это… Вообще всё странно, так странно…
– Не странно. Она почему-то захотела исчезнуть. Почему? – он смотрит на меня.
– Ясно, кажется…
– Чё те ясно? «Ясно»… Ты дворец ей купил? Что-то такое она получила от тебя, по-настоящему материальное? Я не имею в виду детей… Дом только этот, – он
Усмехнулся.
– Дом-то её! Дом ей Стерх подарил! – я засмеялся почти истерически. – От меня-то геморрой один… Ты её бросил из-за меня… она без тебя… она жить не может без тебя, вот что… Может поэтому… поэтому не выдержала и… аборт вот сделала и к Стерху ушла опять…
Алёша вздохнул, качая головой:
– На том велосипеде, но опять не по той дорожке ты едешь, Кирилл Иваныч… ты ж взрослый мужик… столько сердца… Чёрт, когда поостынешь и соображать начнёшь?.. – он внимательно смотрит на меня. – Ты знаешь что-то, но не можешь вспомнить, мозаику сложить. Не хватает ключевого фрагмента.
– «Поостынешь»… – повторил я, – да никогда… Или ты остыл? Что меня пытаешь тогда? Живи себе…
– Ладно, – отмахнулся Алексей, – закрываем тему. Ночевать оставишь сегодня?
К четвергу мы Митей пришли на мою новую работу вместе. Ничего другого не оставалось. Начмед, который собирается уходить на пенсию, встретил меня с улыбкой:
– Ничего себе, Кирилл Иваныч, так вы отец молодой! Сейчас мы… в физиокабинет определим, там душевнейшие люди у нас, за парнем вашим приглядят. Как звать красавчика этого?
– Митя. Только… не отец я, а дед этому красавчику, – мучаясь, говорю я.
– Де-ед?! А что же родители? – изумляется Николай Николаевич.
– Разлад у них, поэтому со мной пока Митюша.
Мы идём в физиокабинет, расположенный здесь же, в административном корпусе. Меня встречают две женщины, похожие на сосланных дворянок, с благородными бледными лицами, похожие между собой, видимо, дружат много лет. Николай Николаевич представляет меня им, мне – их, я не запомнил сходу имён, записать надо будет всех, главному врачу нельзя без этого, просто неприлично, я и на кафедре всех знал до последней лаборантки.
При воспоминании о кафедре у меня неприятно сжалось всё внутри, будь я женщиной, я прослезился бы должно быть…
Потрясения ждали меня, как оказалось на планёрке, ежеутренней пятиминутке, когда я увидел среди прочих Алексея…
– Ну и ну, Алексей Кириллыч… вот мы… о работе и слова не сказали… радостно говорю я сыну после планёрки.
– Так у нас с тобой дома фронт, до работы разве? – захохотал Алексей.
Вот и образовалось у нас почти семейное предприятие, как мне мечталось некогда, раньше никак этого не могло случиться, только теперь. И опять благодаря Лёле свершается моя тайная мечта работать вместе с сыном.
Но почему разрушилась моя главная мечта и вот так в один миг… почему со счастьем рядом вечно боль? Да ещё такая, невыносимая?.. Ни одной ночи заснуть не могу, чувствую её аромат рядом со мной, её дыхание, её тепло. Повернусь и вижу – нет её, холод рядом, пустая подушка, под одеялом холод… Только Митюшка, её живая копия, будто возвращает прежнее время…
Пока Стерх не приехал взять его на пару дней.
Даже здесь в больнице бледная и больная, как я никогда ещё не видел, даже, когда она болела раньше, Лёля удивительно красива. Когда я сказал ей это, она засмеялась:
– Знаешь, что расскажу тебе об этом… – сказала она, улыбнувшись немного грустно: – Когда-то я видела в лесу мёртвую берёзу. Она стояла, высокая белая, стройная, и среди живых зелёных пышных деревьев, как чужая, как жемчужина в коробке с пластмассовыми серыми бусинами… – сказала Лёля, улыбаясь красивой высокомерной улыбкой. Она никогда раньше не улыбалась так.
– Всё так, кроме того, что ты мертва, – сказал я.
Она посмотрела на меня, погладила по руке.
– Митю видел?
– Сегодня поеду, привезу, – сказал я. – Я купил квартиру здесь, в Н-ске… может, тебя отпустят на выходные?
– Отпустят, я попрошу. Привези Митюшку, только не говори ничего… там…
Я вижу, как у неё дрогнула шея. И смотрит на меня, ресницы пушистые, не накрашенные, а губы сухие, бледные. Она никогда не была бледной раньше. Прозрачной, светящейся изнутри с нежным, просвечивающим румянцем, у неё вся кожа такая, на всём теле, тонкая, сквозь неё просвечивает тёплая кровь. А теперь… Лёля, ты так и не говоришь, чем ты заболела, милая…
– Да это… так, Игорь, ты не должен волноваться, это от кровотечения, много крови ушло тогда… с ребёнком, – голос дрогнул, она отвернулась, щурясь, скрывая слёзы.
Но справившись с собой, говорит совсем другим тоном, будто улыбается даже:
– Знаешь, тут одна со мной лежит, кавалера завела себе из пациентов. У них даже диагнозы одинаковые. Но у неё дома муж и ребёнок и у него… Бегают на лестницу по ночам. Вот такая любовь, Игорь Дмитрич.
– А выпишутся, поженятся? – усмехаюсь я.
Лёля смеётся, но её смех другого оттенка:
– Это даже не пир во время чумы, ведь те пируют-то здоровые, от страха заболеть. А это сами чумные пируют, уже гробы заказаны, в мастерских стоят, их репсом обивают изнутри, а они, их обитатели будущие, влюбились… Как дар напоследок. Будто за то, что скоро конец. И болезни они не чувствуют благодаря этому. Только сейчас и зажили, только перед смертью.
– А может, не умрут? Могут ведь…
– Могут. Но… – она улыбнулась не грустно, как-то прозрачно, призрачно даже: – Два развода, брошенные дети, мужья, жёны… не больше ли слёз, чем от их смертей? А главное, выживет ли их любовь, если выживут они?
Мне не по себе от истории, её отношения к ней, этого философского спокойствия:
– Безнадёга какая-то, а, Лёль? Я считаю, что ты… ты не права. – Мне не хотелось спорить с ней, но я не могу согласиться с тем, что она говорит об этих странных счастливцах. – Непоправима только смерть. Всё остальное можно исправить.
Она посмотрела на меня:
– Нет, не всё, – произнесла она тихо и убеждённо.
Она повеселела и стала прежней только, когда увидела Митю. Он прижался ней, обнимая за шею маленькими ручками. Они оба замерли на несколько мгновений, держа в объятиях друг друга. Я с удовольствием смотрел на них двоих, чувствуя, как сладко замерло моё сердце от нежности и умиления, когда-то я не поверил бы, что способен на такие вот нежные содрогания в груди…
Мы были в этой большой квартире, что я срочно купил в Н-ске, ещё почти пустой, где были только большой ужасный диван, разложенный на две половины, телевизор, полированный стол с потрескавшимся лаком и четыре стула. И это на все три комнаты, что имелись здесь. Ах да, ещё шкаф, трёхстворчатый и тоже безобразный, как и всё остальное.
– Ты извини, я не успел купить ничего, только постельное бельё… эта мебель – то, что осталось от прежних хозяев… я займусь этой берлогой, – при ней видя ещё отчётливее недостатки этого жилья, сказал я.