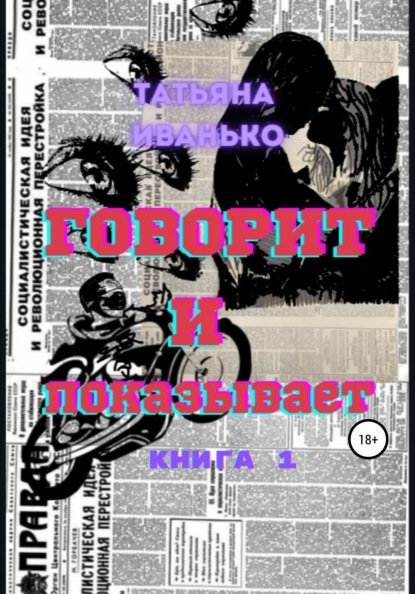Полная версия
Говорит и показывает. Книга 2
Я вышел и снова закурил. Надо пепельницу в комнату что ли принести, окно открыть и… Или курить бросать.
Маюшка просыпалась так ещё несколько раз. И снова я ничего не мог добиться, кроме воющих рыданий, бессилие овладевает мной.
Я лёг рядом с ней, как и вчера, и опять мы одеты оба. Но когда она проснулась, плача, на рассвете, в очередной раз, я не выдержал. К чёрту деликатность. Я чего, интересно знать, жду? У меня уже почти болезненная эрекция, а я как слюнтяй изображаю какого-то друга? Для чего мы здесь? Для чего она здесь? Из-за чего она плачет, доходя до исступления? Я идиот…
Она открыла опухшие глаза, этак все их выплакать можно…
– Ты что… Ю-Ю… Илюшка… Что ты?!
– Тише… – пальцами под горячий влажный затылок, опухшие губы, солёные, мокрые, горячие, будто это и не губы, а… как это у Шекспира: «преддверия души» …
Трусики из розового французского кружева, я сам выбирал их, прочь, всё прочь…
– Илюша… нет, что ты… не надо… не сейчас… Подожди… – она ещё пытается спасти платье, удержать его на своих плечах, и меня на расстоянии.
Уже не получится, Май. Меня уже не остановишь… поверь мне, так будет лучше… вот кожа твоя, груди обнажились, соски нежные розовые в бусинки собираются… Бёдра врозь…
– Не надо, Май… – я убрал её руки, пытавшиеся отодвинуть меня.
Мне почти больно, ей, думаю, тоже, выгнулась, выставив подбородок со вздохом-стоном… Но аромат какой, Май… и тепло… и… блаженство… наконец-то… наконец-то… блаженство моё, моё наслаждение…
… да, Ю-Ю, наверное, так и надо. Наверное, это и правильно. Именно так и верно. Так и ладно… Ю-Ю… Хорошо, что… так… А-а-ах… хорошо… как же хорошо…
Все эти годы я не занимался любовью. Даже сексом я не занимался. Чёрт его знает, что это было. Что я делал? Разве я кончал? Вот она – кровь и плоть, вот пот и слёзы, я слышу и сердце, и бег крови по твоим венам, я слышу дыхание в твоей груди, я чувствую всё, что чувствуешь ты, даже твои желания, каждую твою мысль.
Ты разбила мне сердце однажды июньской ночью, сказав, что мне больше нет места, ты разбила мою душу, чтобы теперь собрать всё снова, всё оживить, одухотворить.
Ливень зашумел по крыше, по стеклу. Окно открыто, кажется, что мы лежим прямо под этим дождём. Он грохочет и шелестит по стенам и тротуару. Убаюкивает, но нам спится так мало…
– Зимой у тебя тут совсем темно?
– Зимой везде темно.
– Не всегда, – она улыбнулась, повернувшись ко мне, пальцами ласкает мою бровь, ресницы. – Я люблю тебя, ты знаешь?
– Хотелось бы думать, что да, – как же хорошо.
Как хорошо целовать её снова и ловить ртом слёзы счастья и блаженства, не горя. Не горюй больше, Май, не горюй, умоляю… Я не хочу больше быть твоим горем. Я хочу быть твоим счастьем.
– Я… я хочу ещё… ещё, Ю-Ю… будешь думать, я нимфоманка.
– Нимфоманки не кончают, от того у них и мания.
– Значит я Ю-Юманка!..
– Когда тебе на занятия? Или вернее, уже на работу? – спросил я, когда мы, усевшись за табуретку, послужившую нам столом, уплетали яичницу, вчерашним хлебом стирая с тарелок растекающийся желток. И яйца, и колбаса кажутся особенно вкусными. Как и кофе. На кухню есть мы не пошли, там никто не ест, столы разделочные, ещё только плиты да раковина.
На улице по-прежнему солнечно и жарко, ночной ливень только смыл пыль с листвы и крыш. Но стало ещё жарче. Окно распахнуто настежь, хорошо, что оно открывается наружу, иначе рама занимала бы полкомнаты.
– Одеяло теплючее у тебя, – сказала Маюшка.
– Это не одеяло, это я, – смеюсь я.
На ней моя футболка, у неё одежды-то никакой нет. Мы не говорим ни о её вещах, ни о документах, ни о чём, что заставит нас говорить о Васе. Мы как соучастники убийства не в силах говорить о жертве.
– На занятия мне через неделю. Двадцатого.
– В очередную годовщину путча? – усмехнулся я, и протянул руку, чтобы стереть капельку желтка, что высыхает на её подбородке. Маюшка засмеялась, перехватывая мои пальцы в свои маленькие.
– Ну не совсем, девятнадцатого годовщина.
– Тебе было страшно в те дни?
– Как только я увидела, как трясутся руки у Янаева, сразу стало не страшно, – ответила она.
Я усмехнулся, верно.
– Какой сегодня день, Ю-Ю?
– Надо выйти на улицу, может поймём, или телик включить, – засмеялся я.
– Вопрос в чём мне идти на улицу.
Я оглядел её со вздохом:
– И ни черта из моего тебе не подойдёт… Дам джинсы, ремнём перехватим, а там купим что-нибудь.
– Ещё не все деньги потратил что ли?
– Мало-мало есть, – сказал я и добавил: – Я шесть лет почти не тратил, Май. А зарабатывать я умею, ты знаешь.
– Здесь то же? – уже не улыбаясь, спросила Маюшка.
– «То же» всё реже. И чем дальше, тем меньше мне хочется зарабатывать «этим», хотя это легче всего. Сейчас столько частных клиничишек, на деле обычных абортариев, развелось, больше, чем парикмахерских. И относятся там ко всему этому так же, как к какому-нибудь маникюру. Угнетает, знаешь ли.
– Не знаю, но верю на слово… – она подняла голову. – Надо посуду помыть.
– Не парься, я помою, – сказал я, вставая. – Но… знаешь что? Я тебя познакомлю с моими тутошними подружками, идёт? Вот платье купим тебе…
Глава 2. Вальтер
Я дежурю за Илью уже в который раз. Столько же раз за меня дежурил он. Но когда он позвонил и попросил поработать за себя неделю, до двадцатого, и заведующая Елена Семёновна была уже в курсе, я почти разозлился.
– Валентин Валентиныч, я понимаю, вы почти перешли в дежуранты, а тут я прошу и Илья Леонидыч, не сомневаюсь, что вы не подведёте.
Я не подвёл, конечно, но за это Илья будет мне должен. Хотя бы рассказать, с кем это он так отлично завис на целую неделю. Прямо любопытно. Впрочем, он и в Сочи полетел с какой-то Яной, оказалось, это ничего не значит. И теперь, скорее всего та же пустая история.
А мне предстояло возвращение под начало Ника Сестрина. Но оставлять Центр на Опарина я не намерен, конечно, здесь перспектива, правда ЭКО меня совсем не привлекает, вся эта возня с психованными бесплодными парочками – не для меня, как Илья это выносит, не понимаю. Но у него идея фикс, перекрыть количеством вновь рождённых детей тех, кому он родиться не дал. Ну, не бред? И сентиментальщина. Достоевский замучился бы по нему плакать, то же мне, гинеколог – мученик совести.
Я сам всегда был чужд не только сантиментов, вообще излишних проявлений чувств. И в семье у меня все были сдержанными, никогда не миловались при мне, не называли друг друга какими-нибудь «пупсиками» или «солнышками». Маму зовут Марта Макаровна, придумать для неё ласкательное прозвище это будет «Мартуша», что-ли? Или «Марточка»?
Но Илья при мне тоже не выказывал чувств никогда. Правильнее сказать, он их скрывал, но это не значит, что я не могу их в нём разглядеть. Он переживает за своих пациенток, за каждую неудачу, на мой взгляд слишком близко принимая к сердцу. Учитывая, что в лучшем случае только треть попыток ЭКО оканчивается беременностью, это чересчур расточительно. Эдак ни на что вообще чувств не хватит. А если посчитать сколько этих вымученных беременностей сопровождается тяжёлыми осложнениями вроде Синдрома Гиперстимуляции Яичников, когда женщину так переполняют гормоны, что раздувает все её органы водой и она может легко умереть в это время, то тем более.
Всё это, эти переживания не для меня. Я готов оперировать, спасать и детей, и женщин в родах и от самых лютых женских болезней, но возиться с их гормонами, психологией, всей этой тонкой материей – увольте. Да и не замахиваюсь я на то, чтобы смотреть в лицо Творцу. Я ремесленник, лучше всех знающий и выполняющий своё ремесло. И если, по возвращении на кафедру мне удастся заставить себя описать пару-тройку новых операций, придуманных и проведённых мной с отличными результатами, и написать диссертацию на эту тему – это всё, на что я способен. Пожалуй, даже учеников я не смогу за собой вести, это ведь тоже близкое общение…
Но вот и явился Илья Леонидыч, худой, искристый какой-то, я таким его сроду не видал. И глядит ясно-голубыми глазами, как семнадцатилетний.
– И что это? Женился что ли? В метро нашёл принцессу?
Илья усмехнулся:
– Принцессу, да. Завидно?
– Познакомил бы хоть.
– Познакомлю, – улыбнулся он. – Ты всё, ушёл?
– Да, уже сегодня Ник Сестрин ждёт.
– Привет от меня передай. Ты в Первую? Или больше в «пятнашку»?
Я покачал головой:
– Вот каким надо быть невнимательным к другу, ни черта не помнишь, а я говорил!
Но он улыбается так, что даже злиться на него нельзя.
– Выпьем сегодня?
Но Илья чуть-чуть смущённо морщит усмешкой красиво очерченные губы.
– Вот морда… – выдохнул я. – Всё теперь, только и видеться будем, что на работе? Надолго эта фигня?.. А я думал, ты по этой своей трагической любви вечно сохнуть будешь.
И тут я догадался. По нему обо всём догадался:
– Да ты чё… Заполучил? Она же… замуж вышла вроде?
Но Илья больше ничего не сказал, Елена Семёновна подошла к нам с историями болезней:
– Так, Валентин Валентиныч, эпикризы напиши, забыл? И дневников не хватает, – она водрузила мне на руки толстую кипу историй, что, все мои?! – А вы, Илья Леонидыч, айда за мной.
Я направился в ординаторскую и засел за худшую часть нашей работы: проклятую писанину. Сколько бумаги, а главное человеко-часов уходит на этот идиотизм…
– Валентин Валентинович, пригласили бы хоть… не знаю… на хоккей… – это молодая, разбитная немного ординаторша Ольга Николаевна зашла включить чайник, в шутку подбивает клинья, я ей даром не сдался, так, подкатывает шутки ради. Зажми я её где-нибудь, небось, сбежала бы. Попробовать что ли?.. Напоследок… Но нет, на работе – ни-ни, себе дороже, не отделаешься после.
– Илья Леонидыч, у меня к тебе личное дело, – сказала Елена Семёновна, приглашая меня сесть на стул возле её стола.
У меня к ней тоже будет личное дело сегодня. Но сейчас я приготовился слушать.
– Я хочу попросить тебя заняться моей дочерью. Не пугайся, ответственность, я понимаю, но обещаю: ни нажимать, ни вмешиваться, ни тем более обвинять в случае неудач я тебя не буду.
– Вы хотите, чтобы она вступила в программу ЭКО? – дрогнул я.
Хуже нет – заниматься родственниками начальства, тем более детьми. Ну и ну… вот уж, где-то удача привалит, где-то наоборот…
– Да, хочу. Тридцать лет, семь лет замужем, ничего, никакой патологии и никаких детей. Займёшься?
Как-будто я могу отказаться…
– Елена Семённа, – в свою очередь заговорил я. – Можно и мне попросить вас о личном?
– Ещё за свой счёт хочешь? – она посмотрела из-под тридцать лет назад выщипанных бровей.
– Да нет. Я… моя… – назвать Маюшку «моя девушка» в этой ситуации было бы неподходяще, свою девушку тащу на дежурства с собой, вот я и воспользовался эти куда более располагающим термином: – моя племянница ординатор на нашей кафедре, позволите, она будет дежурить со мной?
Елена Семёновна улыбнулась:
– Поучить своим секретам хочешь? Что ж, я не против, пусть с тобой дежурит, а там видно будет, может, оформим дежуранткой и дальше… Учи. Сам учишься, когда других учишь.
Потом посмотрела на меня чуть-чуть насмешливо:
– Я и не знала, что у тебя такая взрослая племянница есть. Приводи, познакомь.
Если мой дорогой друг нашёл своё долгожданное счастье, то меня сегодня ждёт испытание. Моего терпения, самоощущения, гармонии моего мира, которую я себе создал и стараюсь сохранять. Это встреча с моей дочерью и её матерью. Это как раз к вопросу о чувствах: я не люблю встречаться с моей дочерью именно потому, что ничего не чувствую… Должен, как положено человеку, отцу, нормальному мужчине и мне стыдно, что я ничего не могу изменить в себе. Кажется, все дети должны вызывать во взрослых хотя бы умиление, как котята, но я и к другим детям этого не чувствую и тем более к Люсе. От этого я начинаю понимать, что я несовершенен, что я бесчувственный или просто плохой человек, циник, деревянный чурбан или чёрт его знает, что ещё, но от этого осознания мне становится не по себе и возвращать радость жизни тоже приходится после этого несколько дней.
Почему моя дочь не вызывает нежности и тепла в моём сердце? Спрашиваю я себя каждый раз. И не нахожу ответа. Потому, что она похожа на свою мать, связь с которой я никогда и не вспомнил бы, не получись в результате Луселия, кошмар моей жизни одно её имя? Или потому, что она не слишком приятный и приветливый ребёнок, но ведь это мой ребёнок, я должен… Каждый раз, когда я её вижу я думаю о том, что, возможно, Марина обманула меня и Люся вовсе не моя? Но Марина так уверена, невозможно так уверенно лгать. Да и моя, наверное, думаю, я сам был таким же противным и нелюдимым ребёнком.
С другой стороны, Марина постаралась извлечь из этой ситуации максимальную выгоду, она привлекла меня к обеспечению их жизни, но и к самой их жизни тоже, но при этом в свидетельстве и рождении не указала меня отцом, для того, чтобы получать все выгоды положения матери-одиночки. Я не пеняю ей на это, понять её легко. Но с тем, как растёт эта девочка, растёт и моя вина. Я всё время виноват и чем дальше, тем больше, что не люблю и не любил её мать, что она плод ошибки, досадной и для меня и для Марины, что я не в силах открыть хотя бы кусочек моего сердца или моей жизни этому ребёнку и впустить её туда, позволить там обосноваться.
Наоборот, я забываю об их существовании от раза к разу. И только настойчивые и неотступные требования денег остаются постоянными. Для этого Марина и ребёнка таскает на наши встречи, чтобы уязвить меня в очередной раз: вот, какой букой растёт твоя дочь без отца. Вот, как мне трудно с ней. Вот, как трудно сейчас находить логопедов, учителей английского, как дороги студии танцев, и художественной лепки, «она так хорошо развивает мелкую моторику», я и слов-то таких не знал… Боже…
А теперь Люся, оказывается идёт в школу. Ей что, уже семь лет?
– Ну, будет семь в ноябре, – Марина надменно сложила губы. – Что же ей идти позднее, чтобы быть самой старой в классе?!
Вот что говорит эта женщина?
– Делай как считаешь нужным, – я поспешил согласиться.
– Уж, конечно, тебе всё равно, как всегда, – зло отмахнулась она.
Я ничего не стал больше говорить, может, так скорее закончится эта пытка. Мы в Макдональдсе на Тверском, куда ещё пойти с ребёнком, с точки зрения Марины.
– Ладно, Юргенс, не в этом дело. Надо денег на форму, портфель, обувь, на книжки. И вообще, сейчас в школу много чего требуется…
– Сколько надо? – выдохнул я.
– Думаю, миллионом обойдёмся.
– Послушай, Марина, я всё понимаю, но… – задохнулся я от непомерной суммы.
Люселия забурлила молочным коктейлем, втягивая остатки через трубочку, гадкий шваркающий звук вкупе с химическим запахом этого пойла вызывают невольную гримасу на моём лице.
– Ну конечно! – ожидаемо взорвалась Марина. – Ты не понимаешь! Тебе всё кажется, что я требую от тебя всё больше и больше, но ты попробовал бы сам один воспитывать ребёнка в наше время. Я даже работу не могу себе найти из-за того, что она то болеет, то надо по учителям водить, то в кружки…
Вот это ты проговорилась. Я подозревал уже давно, что содержу не только Люсю, но и Марину. И ведь сожитель у Марины есть и давно, но и за него не идёт. Не удивлюсь, что она врёт ему, что я, мерзавец, не хочу кормить свою дочь. Судя по тому, как одеты они обе, как часто эти безвкусные тряпки меняются, она не сдерживает своих аппетитов.
Чёрт с тобой, Марина. Очевидно, что я виноват уже потому, что мне тягостна и противна всему моему существу эта встреча, потому я должен платить. Хорошо, что могу хотя бы откупиться…
В подавленном настроении я приехал сегодня домой. Мамы ещё не было, Агнесса Илларионовна приготовила ужин, я застал её в передней, надевающей сандалии. Она носила странные сандалии летом похожие на те, что я носил в моём октябрятском детстве, такие же коричневые с дырочками и рантом, только размер у неё не детский. Вот интересно, она носит их несколько лет, не снашивает или покупает одинаковые?
– Вальтер Валентинович, всё горячее, можете подождать Марту Макаровну, звонила, сказала будет через полчаса, теперь уже минут через десять. Если хотите я задержусь…
– Не стоит, спасибо, мы сами, – сказал я.
Только дома меня зовут Вальтер, это моё второе или первое имя, я не знаю, Валентином меня крестили в Православном храме, все мои передки были православные, от лютеранства отошли тогда же, когда приехали жить в Россию. Но Вальтер имя только домашнее, никто за пределами моей семьи не знает его.
Пока я мыл руки и переодевался в домашнюю рубашку и джинсы, пришла и мама. Её каблучки я услышал по гулкому паркету в передней.
– Ты дома, хорошо, – сказала она, увидев меня, выглянувшего с кухни.
– Есть будешь? – спросил я. – Агнесса только что ушла.
– Пожалуй, да.
Через несколько минут мы уже сидели за столом старинной работы с толстой столешницей из морёного дуба, покрытой льняной скатертью. Запечённые в сметане грибы всегда отменно получаются у Агнессы.
– Да у Агнессы всё отменно получается, – сказал я.
Я чувствую, мама возбуждена, она начала с возмущением рассказывать мне как её последний «мнс» неожиданно начал подумывать о переезде в Канаду.
– Вообрази, это ничтожество, которое я терплю только потому, что никого больше не осталось, его тупость, «транвай», гэканье, «звОнит», противные волосы и дешёвую туалетную воду, я уже не говорю, что у его ни капли научного прозрения или ума.
Я засмеялся:
– Противные волосы? Ну ты даёшь, – невозможно не засмеяться, слушая её описание и возмущение. – Разве научные руководители так оценивают своих сотрудников?
– Ох, Валентин, оценивают всё, это я не говорила раньше, самой себе не говорила, чтобы не культивировать отвращение. Но теперь… – она вдохнула и выпила почти залпом воды из хрустального стакана с золотым кантом. Мама любит красивую посуду и на каждый день у нас не какие-нибудь фаянсовые плошки, а лучшие тарелки и стаканы. А для гостей и вовсе драгоценный поповский фарфор. Но гостей у нас бывает нечасто и негусто. Папиных друзей или уже нет в живых, или они так стары, что в гости давным-давно не ходят. родственников и вовсе никого нет: мама из спасённых ленинградских сирот, что вывозили по Ладожскому озеру в 42-м, она и имени своего и фамилии никогда не знала, после войны её удочерили пожилой доктор и его жена, у них дети погибли в блокаду, вот мама и стала их ребёнком, поэтому она, наверное, выбрала медицину, когда решала на кого учиться, поехала в Москву, тут и отца встретила. А со стороны отца тоже все родственники были потеряны ещё с момента его ареста. Так что мы одинокие Юргенсы. Я своих приятелей в дом не водил, тусоваться – одно дело, но привести в дом к маме – совсем другое. Из моих друзей мама знакома только с Ильёй. Но разве он не единственный мой друг?
– А ты что, такой? Расстроен чем?
Мама знает о Луселии, не сразу, но я рассказал ей о своей внебрачной дочери. Мама, выслушав, сказала тогда:
– Хорошо, что не бросаешь хотя бы материально. Но… не пожалеешь потом, когда станешь очень взрослым, что не сумел заставить себя быть нормальным отцом?
– Разве надо себя заставлять? Разве я не должен был сам этого захотеть? Сам! А не оказаться прижатым к стене свершившимся фактом?
Мама пожала плечами тогда:
– Это называется ответственность, сынок. Надо было раньше думать.
– Раньше, когда это?!
– Видимо тогда, когда твоя рука потянулась расстегнуть штаны… – спокойно сказала мама. Он с отцом особенно не щадили и не баловали меня. Я не рос академическим ребёнком, членом тусовки «золотой молодёжи». В юности я ещё не понимал, а теперь я благодарен им за это, с моими задатками я превратился бы в худшего представителя мажоров.
А сейчас, видя моё подавленное настроение догадалась, где я был. Только после этих встреч я становился таким.
– Мне жаль, Валюша, что у тебя такие отношения с дочкой. Уверен, что ничего нельзя изменить?
– Ну как изменить, мама? – начинаю сердиться я.
Она пожала плечами:
– Мне трудно сказать, Я не мужчина, у меня иное отношение к детям… но… если бы я не воспитывала тебя с рождения, возможно и я не могла бы испытывать к тебе того, что испытываю. Трудно любить того, кого ты не знаешь. Я тебя… мне тебя жаль, Валюша, жаль, что это так. Что я не знаю мою внучку. А ты не знаешь свою дочь. Выход только один: жениться, нарожать детей, почувствовать себя отцом, и тогда ты сможешь, может быть, принять и эту девочку.
Я усмехнулся, убирая тарелки со стола:
– Нелёгкий какой-то путь.
Мама тоже улыбнулась, вставая:
– Открою тебе секрет, сынок: в жизни почти нет лёгких путей, – мама включила чайник и открыла крышку над тарелкой с выпечкой. – О, Агнесса Илларионовна и профитроли сделала, знала бы, не стала так наедаться.
Жениться. Это кажется так просто, вот они, толпы девушек, готовых быть со мной, уж, конечно, большинство согласились бы выйти за меня, но… почему меня пробирает тоскливая ломота до костей, когда я думаю о том, что… как говорит Женя Лукашин: «Будет сновать у меня перед глазами туда-сюда, туда-сюда!». Говорить ведь о чём-то надо, хотя бы иногда… По-моему, мамины надежды на то, что я когда-нибудь смогу сделать её счастливой бабушкой, никогда не осуществятся.
Мама достала чашки и сказала, как будто между прочим:
– Послушай, Валюша, у одной моей приятельницы есть дочка, ей двадцать семь, она недавно развелась с мужем, и может быть…
Я захохотал:
– Мам, знакомить меня будешь как в прошлом веке?!
– Ничего особенного, не сватаю же я тебя! Понравится, будете встречаться, а нет – никто не заставляет.
– Я ушам своим не верю! – я вышел из кухни, не намереваясь больше слушать. «Вечера кому за тридцать» – дожил…
Больше мы не говорили об этом в этот вечер. Но, через неделю или две, мама вернулась к этому разговору. Она вошла ко мне в комнату, где я смотрел «Бездну» на своём видике, с удовольствием задрёмывая время от времени, пребывая таким образом в неком блаженном трансе.
– Это билет в «Сатирикон» на Райкина, говорят крутейший спектакль, – сказала мама и положила бумажку на мой стол.
– «Крутейший»? – что-то я не припомню таких слов в мамином лексиконе.
– Говорят, да. Второй билет у Танечки, в соседнее кресло.
Я даже сел:
– Мам, мне тридцать три года, и я буду как…
– Вальтер, это просто культпоход, – сказала мама. – Сбежишь в антракте, если что. Она хорошенькая.
– Ты видела?
– Да.
– А что тогда с мужем разошлась?
– Студенческий брак. Люди женятся, потом вырастают и оказывается, что они чужие. Ничего особенного, это теперь бывает часто, – мама направилась к двери. – Там по телевизору про поджог ночного клуба, восемь человек погибли. Ты… твоих друзей нет среди них?
– Илью я видел вчера утром, значит, он там не был. Да и… он, наверное, и не ходит теперь по клубам, у него семейная жизнь, – почти зло ответил я.
Ещё бы мне не злится, если раньше я ревновал Илью к тому, что у него слишком много увлечений, которые я не разделяю, хотя бы мотоциклами, так теперь он со своей ненаглядной Маюшкой вообще стал недоступен для меня.
– Илья женился?! – мама остановился на пороге. – А я… думала он… такой, убеждённый холостяк-гуляка и плохо на тебя влияет.
Я только отмахнулся и сказал мрачно:
– Он – хуже, он чёртов однолюб.
– Серьёзно? – улыбнулась мама, и добавила нечто удивительное для меня: – Счастливец.
Глава 3. Хорошая
Наши друзья пострадали в том пожаре. Мокрый погиб там. Это было по-настоящему страшно – приехать ко второму моргу на Пироговку, откуда забирали тело Мокрого в закрытом гробу. Мы, нашей многочисленной компанией, на приглушенно и медленно рычащих мотоциклах поехали вслед за потёрханным ПАЗиком, где сидели его мать и бабушка и смотрели на его синий бархатный гроб.
Маюшка молчала и старалась будто стать меньше ростом. Будто ей неловко от того, что она жива.
– …что все мы живы… – сказала Маюшка, когда мы ночью лежали рядом голова к голове, слушая как шелестят листья, как редкие автомобили шелестят по асфальту. – И что живы, и так счастливы. Вот Мокрый, мы видели его ещё в те выходные, он… такой как мы и вдруг… он едет в том кошмарном синем ящике, чтобы быть закопанным в земле. В мокрой земле. Мокрый в мокрой… Как будто нарочно для того, чтобы… – она вдруг затряслась от смеха.
И я засмеялся, тоже, через несколько мгновений мы оба хохотали, до судорог в мышцах живота. Эта нервная реакция на смерть и отторжение смерти как того, что неизбежно придёт и за каждым из нас. Мы не хотим в это верить, мы не хотим об этом думать, этого не может быть для нас, мы вечно будем живы и будем любить друг друга. Поэтому, ещё задыхаясь от смеха, мы целуемся. И ощущения наших тел обострены, потому что мы помним кладбище, убитых горем маму и бабушку Мокрого, и все остальные, кто был сегодня на кладбище, я уверен, чувствуют то же…