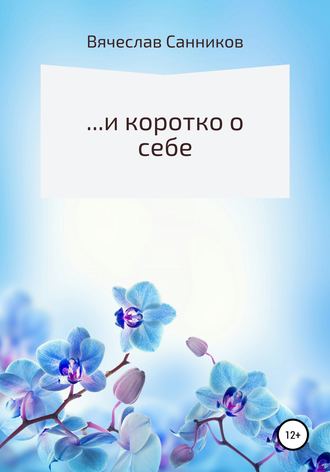 полная версия
полная версия…и коротко о себе
Одни из самых дорогих для меня эпизодов юности – это походы в горы Заилийского Алатау в окрестностях Алма-Аты. Никто специально не прививал мне любовь к горам. Первые воспоминания относятся к моему босоногому детству (где-то 71-74 г.г.), отец тогда только купил наш мотоцикл и тот, с новым ещё движком, тянул коляску даже в горах. Поездки с отцом в горы на отдых, а также за диким урюком, стали моими первыми впечатлениями о горах. Затем были семейные поездки на Медео, переход к Медео из дома отдыха «Просвещенец», подъем по деревянным лестницам на гору Мохнатка. Позже Медео вместе с друзьями и в одиночку я исходил вдоль и поперёк, даже пришлось участвовать в тушении лесных возгораний в этом районе. По ущелью реки Малая Алма-Атинка (в нём расположен комплекс Медео и противоселевая плотина) мы с друзьями поднимались сначала до горнолыжного комплекса Чимбулак, а затем и выше до метеостанции у подножья гигантского ледника Туюк-Су. Потом были переходы из одного ущелья в другое: из того же Малоалматинского в ущелье реки Казачка через Кок-Джайляу, или в другую сторону в ущелье реки Левый Талгар. Уже сейчас, когда стал вспоминать все наши походы, я даже сам удивился, как много тропинок в горах было исхожено. А ведь названо далеко не всё. Следы наших ног остались в Большом Алма-Атинском ущелье с озером за плотиной высоко в горах; в этом же ущелье в его отроге Аю-Сай. Неоднократно обоими берегами исхожено ущелье реки Проходная за бывшим санаторием Алма-Арасан. Ущелья рек Б.Алма-Атинки и Проходной объединил переход через космостанцию.
Уже в последние годы, т.е. относительно недавно, в периоды отпусков в Алма-Ате, я добавил в свою географию походов Аксайское и Тургенское ущелья. Свой последний поход мы совершили с братом Андреем в 2007 году, спустившись траверсом (по хребту) с перевала Чимбулак к Медео. Андрей, кстати, исходил горы побольше моего и, в основном, в одиночку.
Но вот что хотелось бы отметить. В моем детстве попасть в горы в любом месте (если это не заповедник) было проще простого: садись на маршрутный автобус, и он подвезет тебя высоко в предгорья, дальше уже сам. Все тропы начинались, обычно, именно так. Сегодня же в той же Алма-Ате маршрутные автобусы там не ходят из-за того, что кругом частная собственность, ни пройти, ни проехать. Да еще на некоторых популярных у туристов маршрутах в сторону Киргизии сейчас поставлены пограничные заставы и посты.
Никогда не задумывался, за что я люблю горы. Они просто открывали для себя свой мир и дарили мне свою любовь, а также молодость, силу и красоту. Позже я нашел, с чем сравнить свои впечатления: в горах сильный дух товарищества и братства, отношения людей отличаются большей чистотой от привычных нам отношений внизу так же, как боевая обстановка отличается от тыловой службы.
Горы требовали от меня хорошей физической формы. Я с огромным удовольствием преодолевал затяжные подъемы и спуски, тащил на себе огромный рюкзак плюс брезентовую палатку, полз сам и при этом подбадривал уставших друзей – это ли не благодать! Нужны были заботы о ночёвках, кострах, дровах, пище – и я не ждал ничьих указаний, часто становился неформальным лидером группы. И, конечно же, после всех этих забот горы дарили нам удивительные черно-звёздные ночи с друзьями у костра, с шумом горной реки или, наоборот, с полной тишиной, с огнями большого города, лежащего под ногами. И символические 100 грамм, и сигарета у костра, прикуренная от уголька, и даже отсутствие комаров – все эти воспоминания дарят мне мои горы до сих пор. Я черпаю у них силы.
С другом детства Вадимом Гитисом, проживающим сейчас в Израиле, установил связь через его брата Бориса по Интернету. Правда, дальше обмена приветствиями наше общение не пошло. Ну что ж, у каждого своя, нелегкая жизнь.
Это была семья обычных советских евреев. В детстве такого понятия – «еврей» у нас не существовало, как не отличали мы друзей казахов, немцев, украинцев и др. В нашей иерархии каждый занимал место в меру своих способностей и лидерства. Вадим был толстоват, слабоват физически, и ему часто от нас незаслуженно доставалось. Но, надо отдать ему должное, он упрямо лез во все наши дела и игры.
Его отец, дядя Миша, работал инженером на сахарном заводе, был очень уважаемым человеком. Помню, что он всегда был спокойным и добрым человеком. Мать – тетя Света – тоже работала на сахарном заводе, кем – не помню.
Как я уже сказал, у Вадима было здоровое мальчишеское упрямство. Он был младше нас, и конечно ему тягаться со старшими было тяжело. Тем не менее, я вспоминаю, что он был везде с нами: на пруду, где мы купались и рыбачили, на футбольном поле, в играх. Нам, как и всем мальчишкам, по душе были активные, подвижные игры. Сами организовывали игру в «дубарики». Смысл ее заключается в том, что две команды охотятся друг на друга снарядами, которыми служили сначала кукурузные кочерыжки, а затем просто тяжелые сырые короткие палки. Попал – значит выбил противника из игры. Конечно, доставалось, особенно по голове, но что характерно – тяжелых травм не было. Ох, за то какие споры были «попал» или «не попал» – до драки. Вадик тоже не отставал. Но я отвлекся.
Мы с дворовыми друзьями часто ходили в горы. Вадим долго просился с нами, а мы из вредности (скорее всего) его не брали с собой. Однажды мы все-таки «смилостивились».
Поход был не простым по погодным условиям – часто шел дождь. Мы основательно промокли и постоянно жгли костер. Тогда Вадиму досталось: постоянно ходил за дровами, а для приготовления пищи его заставили продувать макароны. Потом и до сих пор мы с улыбкой вспоминали эти эпизоды. Уже по дороге вниз Вадик вызвался перенести на руках девочку через ручей, да не рассчитал своих сил и уронил ее. Насмешек было много. Теперь я думаю, что Вадим был обычным мальчишкой, озорным, любознательным, отчаянным, добрым, отзывчивым, верным. Сейчас у него семья, двое детей
В 9-ом-10-ом классах я здорово подружился с ребятами из класса «Б»своей параллели. Среди них была очень дружная компания, общаться с которыми было интересно: Отт Вилли, Аркаша Струев, Игорь Афанасьев, Сережка Глазунов, Ваня Шнайдер, Витя Квинт, Витя Вертко. Я проводил с ними больше времени, чем со своими одноклассниками, мы вместе купались, занимались общественными делами, готовили номера на школьные вечера, ездили в горы. Сейчас все они также разбросаны на просторах земли, кто в Германии, кто по России.
Я поступил в институт сразу после школы. Сначала сделал попытку поступить в Академию гражданской авиации с Аркашей Струевым. Он всё прошел и поступил, я нет. Но тем же летом успел подать документы в политехнический институт, сдал экзамены и был принят на строительный факультет. Сентябрь и половину октября 1978 года мы провели на сельхозработах. Потом началась учеба. Мне нравилось учиться, и если бы не мои дурацкие мысли о своей великой миссии в жизни Бурундая, я наверное, неплохо бы закончил институт. Но характер сделал свое: весной я оставил институт, чтобы поступить снова, на этот раз в педагогический. Хорошо, что хватило ума остановиться и пойти работать, а потом в армию. Отслужил срочную в Казахстане, на Байконуре, связистом. Вернулся, устроился на работу, поступил заочно в народно-хозяйственный институт. Работал сначала сварщиком, был избран комсоргом завода «Ремстройтехника», потом работал там же мастером. После окончания учебы в институте был призван на службу в КГБ. А время выпало как раз на все эти перемены, развал, суверенитеты. В Казахстане начались национальные реформы, и мы с женой решили переехать в Россию. Так в 1994 году я оказался здесь, в Тверской области.
В 1996 году я был в командировке в Чеченской Республике, получил контузию, что стало причиной развития болезни и ухода со службы на пенсию по инвалидности.
Есть люди, довольные своей жизнью. Мне жаловаться не на что. Но если прожил бы жизнь заново, то жил бы по-другому, проще, с землёй, с природой и техникой. Однако чтобы понять это, пришлось прожить полвека.
Также и с церковью. Не получив должного воспитания в детстве, я наверное уже не смогу стать искренне верующим человеком, так и останусь православным атеистом. Но я благодарен судьбе за то, что к разнообразной картине мира она все-таки подарила мне возможность добавить к своим воззрениям и приобщиться к величайшему миру нашей православной культуры и философии.
На том пока и закончим. Хорошо, если у кого-то после прочтения этого сочинения потеплеет на душе, если читатель с радостью и грустью вспомнит свои детские годы, опираясь на узнаваемые картинки. Может быть, текст получился небольшим, наивным – простите великодушно.
С тем и остаюсь, ваш Вячеслав Санников.
МИНСК 1988-1990 г.г.
(непрофессиональные заметки)
Это были последние годы существования СССР. Еще, казалось, ничего не предвещало скорого распада великой державы. Жизнь шла своим чередом. Поэтому меня, как кандидата на службу в органы Комитета государственной безопасности (КГБ), направили учиться на Высшие курсы КГБ СССР, в славный город-герой Минск. Аналогичные Высшие курсы были и в других городах: в Москве, Киеве, Тбилиси, Новосибирске и даже в родной Алма-Ате, но все они отличались друг от друга специализацией. Такие, как я, выпускники гражданских ВУЗов, без специальной языковой подготовки, будущие опера в территориальных органах КГБ, учились в Минске. Так я попал в этот город в конце августа 1988 года.
Город-красавец светлым воспоминанием всегда живет в моем сердце. Но стал он таким для меня не сразу. Осень и начало зимы 1988 года стремительно пролетели в службе, учебе, в новом коллективе. Интересную картину представляли собой эти курсы: молодые офицеры от 22 до 30 лет (большинство из нас – лейтенанты плюс-минус звание) жили на казарменном положении, именовались и считались курсантами, ходили в некоторые наряды – как в войсках. В то же время среди нас царил дух студенчества, захваченного идеями перестройки и гласности. Это было время знаменитых реформ Горбачева, разрушивших СССР, время съездов Советов, страна кипела в политических страстях и все больше погружалась в экономический хаос.
Мы, молодые и энергичные, близко к сердцу воспринимали все происходящие перемены. Стремление единое – сберечь страну, а вот в тактике сталкивались разные точки зрения. Жаркие споры кипели далеко за время отбоя. Это золотое время в моей жизни.
Не сразу я нашел свое место в коллективе нашей группы. Думаю, слишком много во мне тогда было гордыни, самомнения. Впрочем, каждый из моих однокурсников представлял собой уже сложившуюся личность, и всем нам надо было на ближайшие полтора года найти общий язык. В итоге это получилось и, забегая вперед, скажу, что разъезжались мы со слезами.
Начались будни. Золотую осень в этот год мы видели лишь из окон классов и общежития, а там уж скоро и сырая минская зима пришла. Первое время общались с городом только во время зарядки по утрам. В любую погоду колонной бежали в недалекий парк, пробежка, разминка и назад. Вернувшись, быстро умывались, заправляли постель, облачались в форму – и на завтрак. Не ахти как кормили, но жаловаться грех. Мне вообще помогло в жизни то, что к качеству и составу еды я всегда был неприхотлив. Тяжелее приходилось ребятам, которые разбирались в казенной еде, отказываясь от одного, от другого. Кто-то мог себе позволить питаться в буфете за свои деньги.
После завтрака с 9 утра и до 14 часов – занятия, как шесть уроков в школе, каждый день, после обеда еще два обязательных урока и два часа самоподготовки, и так каждый день, кроме воскресения. До первой зимней сессии учеба шла постоянно, потом уже каждый приспособился, как и положено студентам.
Примерно с ноября появились выходы в город по выходным дням, позже – и по вечерам в будни. Зима была достаточно холодной, и поначалу замерзший город меня особо не манил. Узнавать его ближе я начал цветущей весной.
Это была первая и единственная моя весна в Минске. Но как в детстве и юности, как когда-то в армии, я трепетно, всей душой встречал пробуждение природы и чувств.
Минск был прекрасен. Этот город в моей памяти остался белым лебедем. Река Свислочь и ее набережная, старый город, новые районы на невысоких холмах, светлые дома, просторные улицы и зелень травы – все это открывалось мне сокровенно, день за днем.
Не скажу, что я необщительный человек. Наверное, такой, как большинство. Но свои путешествия по Минску я не хотел ни с кем делить. Да и вряд ли нашлись бы желающие просто так бродить по незнакомым, внешне ничем не примечательным улицам. Ладно, если б просто бродить. Так ведь многие свои выходы в город я проводил бегом. Но об этом отдельно.
В марте 1989 года я съездил домой на стажировку, в Управление КГБ. Так я пропустил самое серое время минской весны. Вернувшись, мы вновь приступили к учебе, но она уже давалась качественно проще и свободнее. Поэтому по вечерам всегда оставалось время на прогулки. Я заранее выбирал дорогу, выходил, садился на автобус (трамвай, троллейбус) и уезжал по его маршруту в какой-нибудь конец. И дальше, а вернее назад – пешком. В зависимости от времени, обходил окрестности своего маршрута, вдруг находил привлекательные для себя уголки города. А Минск, мне кажется, примечателен тем, что имеет свое неповторимое лицо и множество таких же неповторимых деталей: ландшафт, архитектурные решения, каналы, пешеходные аллеи, мосты, шлюзы, парки, кафе. Кстати, о кафе: впервые в Минске в маленькой кофейне недалеко от нас я с превеликим удовольствием угощался горячим шоколадом.
Так минская весна день за днем дарила мне массу впечатлений. Сейчас жалею, что в этот период не вел никаких дневниковых записей. Многое не вспомнить, не знаю, нужно ли это кому-нибудь, кроме меня, но так приятно поворошить свою память ради признательности Минску.
Самый простой и близкий маршрут моих путешествий лежал через парк и реку Свислочь к центру города, по спокойным улицам. На этом пути находились Дом Офицеров, театр кукол, центральный стадион, центральная площадь города и вокзал. Весной и летом по утрам я позволял себе во время зарядки пробегать эту часть города играючи. По вечерам я просто прогуливался здесь, бывал в театре, заходил в магазины. Недалеко находился Дворец Молодежи, однажды я побывал там на интересной встрече минских команд КВН. Рядом с парком расположено уютное кафе, где не один раз мы с друзьями угощались белорусской бульбой в глиняных горшках из духовки. Дальше по набережной Свислочи дорога приводила на остановку электропоездов, которой я часто пользовался, добираясь в город Борисов и обратно. Там жила тетка жены с семьей.
В другую сторону от парка река Свислочь лежала между улиц, на которых были восстановлены старинные особнячки, брусчатка. Удивляет, с какой любовью это было сделано – район дышал уютом. За ним начиналось городское водохранилище, на берегу которого стоит гостиница «Юность» – место нашего выпускного банкета. Все эти места были не один раз пройдены моими ногами.
В отношении распорядка дня хорошо было в Минске. Утром общий подъем, и зашумел, зашевелился курсантский муравейник. Встаешь, одеваешь спортивную форму, выходишь на зарядку. В любую погоду выбегали в парк, позже я позволял себе произвольные маршруты. Пробежка, разминка, туалет и после всего этого – как огурчик. Правда, на занятиях, особенно на лекциях, спали многие, и я в том числе. Но это, скажу я вам, уже вина лекторов: у того, кто живо давал материал, спящих не было.
После обязательных 6 часов занятий – обед. Далее небольшой перерыв и – марш на самоподготовку. Объем материала заставлял заниматься напряженно. За полтора года нам старались дать юридическое образование. Я пишу «старались», потому что это физически невозможно – вместить в этот небольшой срок программу ВУЗа. Тем не менее, основы давали превосходно. Плюс к этому специальные предметы. Кстати, в дипломе так и значилось: «офицер с высшим специальным юридическим образованием». Способности курсантов были разные; кто-то справлялся с материалом легче, кому-то было тяжелее. И в жизни потом сложилось также.
Перед ужином час-полтора свободного времени. Зато после ужина свободный режим, можно выходить в город. Многие шли в спортзал. Я обычно выбирал между прогулкой, пробежкой или шел в бассейн (зимой). И такая жизнь была мне по вкусу. Вообще, считаю нормальным, когда человек должен в какой-то степени подчиняться начальникам и служебным обстоятельствам, это дисциплинирует.
Летом 1989 года – единственным летом, проведенным в Минске – я сделал для себя много чудесных открытий. Одним из таких открытий стало озеро Вяча. Помню, в первый свой выход я только лишь разведал маршрут автобуса и выход к озеру от конечной остановки. Позже мы с друзьями были там несколько раз. Я решил в одиночку совершить пеший поход вокруг озера. Конечно, предварительно по карте я оценил протяженность маршрута, увидел, что по всему маршруту обозначена тропа. Тем не менее шел наугад.
Предвкушение красоты меня не обмануло. Живописная тропа берегом озера привела меня к устью речушки, впадающей в него. Здесь, немного попетляв в лугах, тропинка подвела меня к мосточку и перевела на другой берег. Теперь в обратную сторону песчаными взгорками, опушкой соснового леса. Вообще, чистые сосновые леса в Белоруссии не редкость, такой красавец-лес окружал и озеро Вяча. Чистая, хоженая тропка шла рядом с берегом, открывая живописные рыбацкие места и стоянки туристов. Так я прошел противоположный берег. Кажется, прошел плотину, а может быть, это из памяти о Минском водохранилище.
Свой маршрут я закончил там же, где и начал, замкнув кольцо похода вокруг озера. Такие походы давали мне огромный заряд позитивной энергии, природа дарила мне свою красоту. Представляя это озеро в наши дни, я боюсь, что так просто пройти по той тропе уже не удастся – там, наверное, как и везде, выросли элитные коттеджи «народных слуг».
Нередко я устраивал себе беговые прогулки: легким бегом по намеченным местам города, иногда с купанием. В силу возраста и физической подготовки бег мне давался очень легко. В связи с этим неофициально принимал участие в легкоатлетических соревнованиях, первый и крайний раз пробежал в Минске дистанцию 20 км и классический марафон. Участие в марафоне, конечно, сильно удивило моих однокурсников: когда вечером на поверке об этом объявили перед строем, раздался шквал искренних аплодисментов. В связи с увлечением бегом вспоминается еще один приятный случай. Нас всем курсом вывели за город для сдачи зачета по кроссу. Предстояло бежать 5км по пересеченной местности. Пока организаторы и курсанты готовились, я пробежал трассу и перед стартом успел рассказать своим товарищам о тактике забега, а затем вместе со всеми сдал этот зачет на «отлично», чем непомерно удивил начальника курса.
Вот таким запомнился мне Минск, город, плывущий по зелёным волнам холмов, как белый лебедь. К сожалению, больше в Минске побывать не пришлось, как и не смог попасть на встречу с выпускниками нашего курса в Москве в 2013 году. Судьбы друзей сложились по-разному. Кто-то ушел со службы вскоре после окончания учебы, а кто-то дослужился до генеральских погон и высоких должностей. Главное, все мои однокурсники честно служили Отечеству.
КАК РЕНКА КУПАЛАСЬ (рассказы о нашей собаке)
Как у нас появилась Нюся
Сын подрос и ходил в школу. Мы уже жили в своей квартире втроем. И когда мы вслух и всерьез заговорили, что надо взять собаку, желание было общим. А еще, как оказалось, мы с Олей одновременно прочитали объявление, в котором предлагались щенки эрдельтерьера по адресу в нашем же микрорайоне. Говорят, собаки характерами похожи на своих хозяев. Как-то без сомнений и мой, и жены выбор пал на эрдельтерьера – помните собаку из фильма «Приключения Электроника»? В общем, были сборы недолги…
Приезжаю в очередной день с работы, а дома вперевалочку ковыляет черный толстый колобочек. Только-только от мамки, кашу учились есть на ходу, вымазав мордочку и все, что рядом с чашкой. А чтобы не стоять над блюдцем, щенок ел, лежа на пузе, смешно растопырив задние лапки.
«И что вы думаете, – рассказала жена, – пришла выбирать, а они все одинаковые по комнате у хозяйки расползлись (маму-собаку вывели в другую комнату). И вот именно эта славная девочка подняла мордашку и посмотрела глаза в глаза. Получается, она выбрала меня сама».
Первые ночи щенок скулил и искал мать. Потом, когда мы узнали характер нашей Нюси, мы улыбались, вспоминая эти дни: надо было взять ее, как малыша, к себе на кровать. Не педагогично, конечно…
Нюся родилась 7 сентября 1992 года.
Ренка…или Нюся?
Вообще-то собаку положено приучать и звать одним именем. Но даже самый строгий собаковод допускает называть своего питомца ласково. Что уж говорить о нашей семье: мы просто нашли верного, преданного и ласкового члена семьи, строгости по отношению к собаке было минимум. Потому, кроме официального, у Ренки появились и другие имена.
Кличка Ренка появилась у нас по имени овчарки, которая раньше жила у моего брата Валентина. Но когда потребовалось записать имя в родословную, оказалось, что кличка должна начинаться на букву «Е». Где-то я читал, что у собаководов принято собакам с родословной в течение текущего года давать имена с одинаковой начальной буквой. На следующий год буква другая, и т.д. Вот и стала наша Ренка официально называться Ерена.
Ерена – Рена, и далее фантазия жены переделала это имя так: Ренка – Реночка – Ренуля – Ренуська – Нюська – Нюся. Вот Рена и стала Нюсей. Отзывалась она на все имена, особенно, когда речь шла о чем-то приятном или вкусном. А после нескольких лет жизни с нами Нюся прекрасно понимала многие слова, интонации и жесты, так же, как и мы понимали ее поведение.
Как Ренка купалась
Раньше мы жили в Казахстане, в пригороде Алма-Аты. Летом там очень жарко. Рядом с нашими домами тянулись лога – русла речушек, углубленные ими за многие годы. В нескольких местах их перегораживали насыпные плотины, и весной вода заполняла эти пруды, а речушки питали их летом.
Знойными вечерами я возвращался с работы из города, проведя напоследок не меньше часа в переполненных автобусах. А дома ждала, мучаясь целый день в тесной и душной квартире, наша собака. Конечно, до моего приезда ее уже кто-нибудь водил гулять, но меня она ждала с особым нетерпением. Я приходил, переодевался, и мы с собакой шли купаться в ближайший пруд. Какое блаженство! Как только берег появлялся в поле зрения, я отпускал Нюсю, и она стремглав бросалась в воду. Все местные ребятишки знали собаку, поэтому отпускать я ее не боялся. И только из-за ее отряхивания после воды, и желания порезвиться между одежд на берегу, отдыхать я выплывал на другой берег пруда.
Как и всякая собака, Нюся со щенков хорошо плавала. Мы проплывали с ней пруд вдоль и поперек, вылезали на берег, играли, загорали. Пока я отдыхал, Нюся обходила берег, принюхивалась, рассматривала жуков и лягушек. Наверное, для нее это был целый мир. И мне кажется, она была очень благодарна за эти тихие летние вечера у воды.
Грязевые ванны
Еще щенком-подростком однажды вечером летнего дня собака убежала от сына. Он поискал ее вокруг ближайших домов, покричал, – все безрезультатно, – и расстроенный пришел домой. Ну, куда денется Нюся из нашего микрорайона, который десятком домов особняком стоял на возвышении – успокаивали мы себя, – надо просто всем вместе обойти дворы и дома. Мы уже так и собрались сделать, когда жена выглянула вниз с балкона (мы жили на пятом этаже). «А это, случайно, не Ренка?» – как-то неуверенно спросила она, приглашая нас посмотреть во двор. Да, картинка! Не спеша, с чувством исполненного желания, по дорожке к подъезду шла наша Нюся. Сначала было и не понять, что с ней случилось. Ее роскошные черно-рыжие бараньи кудряшки были густо обмазаны жидкой глиной, ножки сделались тощими, вверх торчал короткий прутик хвоста – вся в глине по самые уши. Мы пошли встречать ее. Честно говоря, Нюся домой не торопилась и, судя по ее настроению, не очень-то расстроилась, потеряв где-то хозяев. Конечно, она убежала на речку, где мы с ней до этого гуляли. Вот только с хозяином всего, что душа желает, не сделаешь, а тут представился случай сбежать от Ромки и – в самое болото!
Грязевые ванны для собаки закончились долгим отмыванием от глины в пруду. Немного пожурили Нюсю для порядка, а потом долго вспоминали ее «самоволку».
Как Ренка потерялась
Однажды Ренка у меня потерялась. Случилось это в тот момент летом, когда Оля и Ромка гостили в деревне у бабушки аж в Нижегородской области. Я работал, старался пораньше, или хотя бы вовремя возвращаться домой к изнывающей от жары и одиночества собаке. В тот год у нас уже была машина и гараж недалеко от дома. Приезжая, я переодевался, брал Ренку, и подолгу выгуливал ее, компенсируя дневное заточение. Или спускался к гаражу и занимался машиной, рядом со мной в гараже почти всегда были соседи, люди радушные и общительные. Нюся в это время бродила рядом, а то и убегала за гаражи, так, что время от времени приходилось искать и звать ее. Наверное, она тоже любила гаражи, там часто водительские компании отдыхали за вином и пивом. Ну а Нюсю многие знали. Она тоже знала, что если скромно подойти, постоять рядом (так просто, вроде бы ей ничего и не надо), то обязательно со стола перепадет кусочек соленой рыбки и ей, горемышной… Что поделать, один из пробелов в воспитании.

