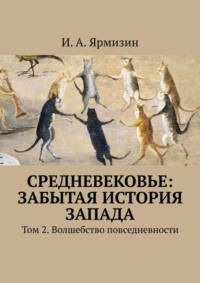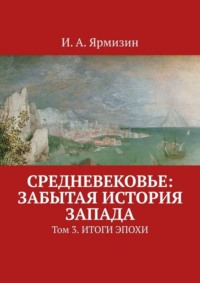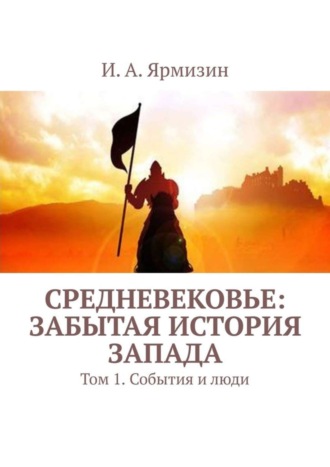
Полная версия
Средневековье: забытая история Запада. Том 1. События и люди
Не в силах больше сдерживаться, цвет европейского рыцарства, высшая аристократия Франции, в голос начинает рыдать. Каждый из них потрясенно лицезреет муки Господа на кресте. Тысячелетняя мистерия предстает наяву. В слезах, с разорванным от боли сердцем, король и его младший брат Роберт принимают бесценный дар. Босоногие, прикрытые лишь холщовым рубищем, много километров, под палящим солнцем, они идут до города Санса. За ними следуют такие же босые, умиленно и возвышенно плачущие рыцари. Герои многих кровавых схваток. Санс их встречает колокольным звоном, божественными звуками органов. Улицы устланы коврами и богато украшены. Клирики и монахи вынесли самые почитаемые мощи святых. Людей охватило раскаяние. Повсюду можно было видеть слезы и рукоплескания. Очевидцы вспоминали, что время в те божественные мгновения остановилось, и все словно застыли на пороге вечности.
Меж тем смерклось, но процессия продолжала движение, теперь уже при свете множества свечей. Ее по-прежнему вел босоногий король (он так и будет идти «нищим паломником» вплоть до Парижа, и в самой столице тоже не сменит «одеяния»). Эта «униженность» становится понятной, если учесть, что дорогу Людовику освещал не только факел, но и сам Христос. И он, и весь город в эти часы поклонялись не реликвии, но живому Господу. Они видели Его, и эти часы, по признанию архиепископа Санса, стали необыкновенной и высшей наградой за всю его жизнь, посвященную Богу и королю.
Глубокие, самые интимные религиозные чувства в ту эпоху захватили всех, даже самых красивых и знатных женщин: молодые аристократки, поглощенные пустословием и легкомысленностью, казалось бы, наслаждались жизнью, сплетнями, интригами. Но… Возьмем, к примеру, Беатрису ван Равестейн, – одну из первых дам Бургундского двора. На ней, как и подобает, роскошнейшее платье с множеством драгоценных каменьев. А под платьем – власяница, надетая прямо на голое тело. Овечья или козья шерсть, из которой она сделана, очень жесткая и ежесекундно колет веселящуюся или ведущую учтивую беседу даму. Современник говорит о Беатрисе: «Одетая в золотошвейные одежды, убранная королевскими украшениями, как то подобает ее высокому рангу, и казавшаяся самой светской дамой из всех; обращавшая слух свой ко всякой пустой речи, как то многие делают, и тем самым являя взору внешность, полную легкомыслия и пустоты, – носила она каждый день власяницу, надетую прямо на голое тело, нередко постилась, принимала лишь хлеб и воду, и, в отсутствие мужа, немало ночей спала на соломе»15.
А вот потусторонний мир: черти, ведьмы, лешие, просто умершие, пришедшие к живым. Их видели бессчетное количество раз: мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные. Такой выдающийся интеллектуал как Рауль Глабер признается, что лично видел демонов и самого Сатану. Последнего – целых три раза. Причем он не соблазнял, а ужасал и преследовал проницательного монаха как жертву. Один из таких случаев произошел в предрассветной мгле, в монастыре Сен-Лежар-де-Шампо. От Глабера не ускользнули даже мельчайшие детали внешнего облика Нечистого. «Вдруг я увидел, как у меня в ногах появилось некое страшное на вид подобие человека. Это было, насколько я мог разглядеть, существо небольшого роста с тонкой шеей, худым лицом, совершенно черными глазами, бугристым морщинистым лбом, толстыми ноздрями, выступающей челюстью, толстыми губами, скошенным узким подбородком, козлиной бородой, мохнатыми острыми ушами, взъерошенной щетиной вместо волос, собачьими зубами, клинообразным черепом, впалой грудью, с горбом на спине, дрожащими ляжками, в грязной отвратительной одежде».
Кажется, дух Средневековья с его кровавыми страстями мог царить лишь в мире идеального. Каким-то феерическим крещендо он взвинчивается до предела, до невозможности, недостижимости. Он – настоящее испытание, ниспосланное людям. Он настолько высок, что даже достигнув высочайших вершин, даже уровня Франциска Ассизского, человек все равно оставался в полной уверенности в своей ничтожности, бесконечной греховности, его мучало постоянное чувство вины. Без неистовства, охватившего миллионы мужчин и женщин, без фанатиков и изуверов святые той эпохи просто не могли существовать.
И только один звук объединял всю эту феерию цветов, эмоций, криков, красок; соединял пестроту и многообразие быстротекущей жизни в единый лад неба и земли. Это звук колокола: он возвещал горе и радость, покой и тревогу, созывал народ и предупреждал об опасности. И каждый отличал эти колокола по звучанию и именам: Роланд, Страшный, Толстуха Жаклин… Их голоса раздавались первым человеческим криком и завершались последним погребальным звоном, призывающим недостойного раба божьего в укромные недра бытия.
Отношение к детям
Не будет преувеличением сказать вслед за одним историком, что хотя средневековье – это эпоха молодых, тем не менее, она не знала детей. На протяжении целой тысячи лет мы не видим маленьких королей жизни, не встречаемся с бесконечными попытками угодить им. Ни сюсюканий, ни нарочитых обожаний со стороны взрослых, ни забрасываний игрушками и другими подарками. К слову отметим, что такая ситуация продолжалась вплоть до XVII столетия, и изменение отношения к детям – еще одна важная деталь в процессе «изживания» остатков средневековья. А в те далекие века даже де-юре человек считался взрослым, начиная с 12 лет. В этом возрасте, скажем, в Англии он приносил присягу на верность королю и обществу (позже эта клятва легла в основу английского общего права), а также вступал в «сообщество десяти». Т.е. десяти человек, которые сообща несли ответственность за деяния каждого.
Равно как и не было никакого особого отношения к беременной женщине. Последние были беременны почти постоянно, лишь с небольшими перерывами, поэтому равнодушное или, точнее, нейтральное отношение к ним характерно для всех без исключения слоев общества.
Несмотря на колоссальную детскую смертность, общество в те времена было (в среднем) очень молодым, – возраст половины населения не превышал 18 лет! Понятно, что немногочисленные (в процентном отношении) труженики, обладавшие, к тому же, крайне низкой производительностью труда, физически не могли обеспечить всех. Поэтому детям с самого раннего возраста приходилось много и тяжело трудиться. Хотя и время для игр все равно всегда находилось. Доказательством тому служит множество игрушек, найденных археологами, – от свистулек и мячей до маленьких предметов кухонной утвари и кукол.
В целом, бросается в глаза, что у средневековых авторов отсутствуют, пожалуй, две такие естественные и общераспространенные сегодня вещи: умиление детьми и жалобы на усталость. Последних тоже нет вообще. Интереса ради каждый может сравнить нынешние тяготы, вызывающие столько стенаний (вроде маленькой зарплаты или дорогой ипотеки), с теми, которые приходилось испытывать людям в средние века.
Конечно, ровное отношение к детям не означает, что в те годы не существовало родительской заботы и любви: эти чувства универсальны для всех времен и народов. Они были. Но иные, не такие, как сейчас. Даже родительская любовь другая. Вот воспоминания отца, потерявшего от чумы в середине XV века жену, сына и семерых дочерей, о смерти единственного наследника. «Подойдя к порогу смерти, он являл собой восхитительное зрелище, когда, несмотря на свой столь юный и нежный возраст – 14,5 лет – сознавал, что умирает… В течение своей болезни он три раза с большим раскаянием исповедался, принял святые дары Господа Нашего Иисуса Христа с таким благоговением, что все присутствующие преисполнились любовью к Богу; наконец, попросив священного елея и продолжая читать псалмы вместе с окружавшими его монахами, он мирно отдал душу Богу».
Жесткость средневековья выражалась в том, что Церковь раздражало даже самое ненавязчивое, скорее мимолетное, хотя может быть и глубокое, проявление любви: все эти поцелуйчики, это «милование», могло показать (по ее мнению), что создания Бога для кого-то важнее Его самого. От церкви же исходили и важные советы в деле воспитания. Например, не расспрашивать ребенка, не смотреть на него чересчур пристально – это ему повредит; внимательно следить, чтобы в него не вселился бес, как это нередко случается.
Так что, с одной стороны, расцвел культ святых невинных младенцев, а с другой, в случае любой провинности, ребенка наказывали; ведь если он плачет, значит, в него вселился злой дух, и он будет бит. Как и все в ту эпоху, родительская суровость имела религиозный характер.
Итак, родительская любовь, конечно, была. Но было и нечто выше ее. Вот один из примеров. Любимый сын Бланки Кастильской Людовик, король Франции. Он отправляется в очередной крестовый поход. Бланка провожает. Проходит день, и второй, и третий. Она все едет рядом. Наконец король мягко намекает, что пора бы и расстаться, ведь в столице много дел. На что властная, железная Бланка разражается потоками слез и падает без чувств. Придя в себя, она, рыдая, в отчаянии кричит, что никогда больше не увидит своего любимого сына (так и случилось), и вновь падает в глубокий обморок. Но, с другой стороны, Людовик всю жизнь помнил ее слова, что лучше увидеть своего сына мертвым, чем впадающим в смертный грех. То есть их связь самая глубокая, но честь, совесть, тем более Бог стоят выше.
Учитывая исключительно высокую детскую смертность, важнейшее значение имело своевременное крещение. То есть обряд необходимо было провести как можно раньше. Проблема смерти некрещенных младенцев в то время была одной из самых важных. Она волновала и интеллектуалов, и общество в целом. Что с ними будет? Куда они попадут? После долгих ожесточенных дебатов возобладала мысль, высказанная Фомой Аквинским, что умершие без крещения младенцы попадают в преддверие рая, так называемый «детский лимб», где они не будут испытывать каких-либо мучений, однако лишаются возможности видеть славу Божию. Не самое плохое, кстати, место, учитывая то, что если бы у них состоялось крещение и дальнейшая жизнь, то количество грехов в ней в абсолютном большинстве случаев вряд ли позволило бы рассчитывать даже на вариант «преддверия рая». А в XV веке появляются «алтари отсрочки», куда приносили мертвых младенцев. Считалось, что они там на короткое время обретают жизнь, исключительно с целью покреститься.
Но в целом христианская традиция, начиная со святого Августина, всех людей считает греховными, даже если они живут всего один день. Сам Августин подолгу наблюдал за младенцами, пытаясь прояснить важнейший вопрос: откуда в мире берется зло? И пришел к выводу: младенец не добр сам по себе, он просто по причине слабости не в состоянии нанести взрослым вред. А само Зло рождается вместе с ним. Ребенок же должен встать на путь борьбы с ним, и чем раньше, тем лучше. Разумеется, с помощью родителей. И именно в этом, а вовсе не в слащавой сентиментальности, заключается родительская любовь. Ведь только борясь со злом, пусть поначалу усилиями матери и отца, маленький человек мог обеспечить будущее спасение своей души.
Казни и слезы
Пожалуй, нигде жизнь на грани, контраст между жестокостью и милосердием, не проявлялась так ярко как в казнях, в которых в средние века недостатка не было. Соучастие в экзекуциях, лицезрение эшафота, палача и преступника стали важной частью народных празднеств. Более того, казнь нередко превращалась в настоящий спектакль, «педагогическую поэму» с ярко выраженным назидательным уклоном. Причем действенность ее была исключительно высока, поскольку более наглядного урока воздаяния за грехи, раскаяния нарушителей законов и установлений человеческих и божеских, даже представить себе нельзя. Вот в Брюсселе молодого поджигателя и убийцу сажают на цепь, которая с помощью кольца, накинутого на шест, может перемещаться по кругу, выложенному горящими вязанками хвороста. Пока не разгорелся костер, он искренне кается и «трогательными речами ставит себя в назидание прочим». В конечном итоге, по свидетельству очевидца, «он столь умягчил сердца, что внимали ему все в слезах сострадания».
А мессир Мансар дю Буа, которого обезглавили в 1411 году, в Париже по политическим мотивам, не только дарует от всего сердца прощение палачу, о чем тот просит его со слезами, но и желает, чтобы палач обменялся с ним поцелуем. И опять говорит свидетель: «Народу было там в изобилии, и чуть не все плакали слезами горькими».
Поскольку казни были важным событием в жизни людей того времени, подобным нынешним шоу, то каждый уважающий себя город обустраивал для их проведения подобающее место. Во французской столице это была Гревская площадь. Сегодня она называется Отель-де-Виль. Рядом с ней в стародавние времена находился речной порт, загружали и разгружали суда, так что здесь всегда было оживленно, и трупы казненных еще долгое время служили назиданием множеству снующих по своим делам людей. На площади стояли виселица и позорный столб. И они не пустовали. Более 500 лет здесь пытали, вешали, сжигали, четвертовали, варили заживо преступников, еретиков и политических противников. Здесь в 1240 году Людовик IX Святой сжег 20 телег – целую гору – Талмуда, отобранного у местных евреев. Множество жертв было принесено уже в «просвещенные» времена, – после Великой революции. Эпоха разума началась с гильотины, и в конце XVIII века она работала непрерывно. Случалось, в день казнили до 60 человек, но врагов «нового порядка» меньше не становилось. Среди них был и король Франции Людовик XVI. Зловещий конвейер работал без перерыва.
Гильотина, однако, понравилась далеко не всем. Многие зрители были разочарованы. Шоу получалось так себе, вяленькое, без задора и драматизма. Одно движение ножа и человек уже на небесах, или где там еще. А экшн, как в старые добрые времена? Для привлечения искушенных зрителей приходилось брать массовостью. Зловещий конвейер работал непрерывно. Кровь, море крови… От нее сходили с ума. Знаменитый палач Шарль Сансон даже не мог есть. Везде – на скатерти, на тарелках, на столе ему мерещилась кровь. Ей было залито все.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Впервые все же этот термин употребил средневековый итальянский гуманист, историк, один из первых археологов Флавио Бьондо (1392—1463)
2
Пожимая руку и, обязательно, снимая перчатку, вы тем самым показываете отсутствие оружия (например, спрятанного кинжала) и чистоту своих намерений.
3
Двумя веками ранее такой исход античного мира предвидел выдающийся философ и богослов Тертуллиан. Однако он полагал, что хотя конец Рима станет концом мира и падением «последнего устоя человеческой истории», но он освободит место для столкновения потусторонних сил. Тертуллиан радостно приветствовал «последний бой» и наступление «нового мира».
4
Тема безумия королей красной нитью проходит через всю средневековую историю. Было ли это следствием кровосмесительных браков, болезней, отравлений или еще каких-то причин, – трудно сказать. Но такая проблема существовала. И не только у королей и придворных, но и у целых стран и народов. Яркий пример – французский король Карл VI Безумный. Сойдя с ума, он представлял себя то графином, то граненым стаканом и очень боялся разбиться, отчего расхаживал по дворцу в кирасе. Неожиданно нападал на придворных, некоторых даже убил. Время от времени, впрочем, он становился веселым и тогда в камин летели сломанные стулья, поджигались занавески и устраивался полный разгром. А в это время шла столетняя война, состоялась катастрофическая для Франции битва при Азенкуре… Французы были в шоке. Служили молебны за здравие короля и даже выгнали из Парижа всех евреев, дабы Господь вернул ему душу. Ничего не помогало, и вакханалия продолжалась много лет, вплоть до смерти Карла в 1422 году. Итогом его правления стал распад Франции как единого государства. Править страной фактически стал английский герцог Бедфорд.
5
Некоторые сторонники Карла пытались представить коронацию как полную случайность, мол, зашел себе помолиться, а тут папа с короной неожиданно прибежал. Но это, как говорится, вряд ли. Слишком уж сложная и продуманная церемония получилась. А 12 печальных девственниц, все в белом, с зажженными свечами, не случайно же
6
Такой финал жизни Ирины все же представляется закономерным. В монастыре у нее, наконец, появилось время подумать о своей жизни. И покаяться. За многое. Например, за то, что пребывая в яростной борьбе за власть, она приказала ослепить своего собственного сына, который вскоре в мучениях умер.
7
Почему на знамени был изображен именно архангел Михаил? Апокалипсис повествует нам о небесной битве архангела Михаила и его ангелов с семиглавым и десятирогим драконом, преследовавшем Жену, облачённую в Солнце, и её младенца. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть Михаил играл важнейшую роль в битве добра и зла. Религиозная традиция приписывала ему не только победу над сатаной, но и роль судьи на Страшном суде, на который он призовёт души трубным гласом. Иными словами, состоявшаяся битва была вовсе не одной из многих, – это воины-германцы сражались за свою землю, за веру Христову против сил зла, посланцев Ада.
8
Император, однако, не смирился, ничего не забыл и не простил. Он усмирил мятежных баронов и вернулся в Италию, возвращать «должок». Папе пришлось спасаться бегством и он умер в 1085 году в изгнании.
9
Сильвестр получил блестящее образование в Кордове. Он познакомил христианскую Европу с арабскими цифрами, изобрел первые механические часы, которые подарил Магдебургу (они не сохранились). На протяжении всей его жизни множество людей говорило о связях Сильвестра с дьяволом. Они даже играли в кости. (Эйнштейн говорил, что Бог не играет в кости, а дьявол, как видим, очень даже играет). Он – первый в истории папа – француз, по имени Герберт из Орильяка.
10
Крачки летят на лето из Антарктиды на Шпицберген, а потом обратно. Через всю планету. Путь в один конец составляет 35 тысяч километров. А один перелет с возвращением «на родину» 70—80 тысяч километров. Как небольшая птица, живущая 20—25 лет, запоминает маршрут такой протяженности никому не известно. Скорее всего, они ориентируются по магнитному полю Земли, имея в себе биологический компас. Как почтовые голуби. Магнитные же поля образуются благодаря ядру Земли из жидкого железа.
11
Современная масс-культура, кстати, изображает его точно также. См., например, фильм «Экскалибур», получивший приз Каннского кинофестиваля «За художественные достоинства».
12
Это вполне могли быть и свиньи, принадлежащие монахам ордена святого Антония (его устав папа Урбан II утвердил на знаменитом соборе в Клермоне в ноябре 1095 года). В нем за орденом официально закреплялась привилегия свободного выпаса свинок на улицах городов. Свинина была необходима для кормления больных в многочисленных госпиталях антонитов. Каждому животному для отличия вешали на шею колокольчик, – символ ордена.
13
Как ни странно, в Лондоне в те времена жило множество отшельников. Нередко они ютились прямо в укреплениях городской стены, где в крохотных кельях проводили время в постах и молитвах. Также они были хранителями святых источников. А еще в этой набожной столице высилось 126 церквей, 13 только женских монастырей, да и вообще: «в городе не было ни одной улицы без своего монастыря, своего монастырского сада, своей живущей подаяниями духовной общины, своих монахов».
14
На занятие проституцией обычно смотрели сквозь пальцы. И только в XIII веке Людовик IX Святой стал боролся за улучшение общественных нравов своих подданных, начав непримиримую борьбу с проститутками. Он даже издал несколько эдиктов о запрете этой профессии. Но в конце концов проститутки одержали победу, а последующие короли святыми не были и с прохладой отнеслись к борьбе Людовика против жриц любви и за нравственность. Вообще, борьба короля за народную нравственность шла тяжело. Такое же фиаско потерпела попытка заменить распевание фривольных попсовых песенок серьезной духовной музыкой. Увы.
15
«Спать на соломе» или даже на золе было в те времена не только одним из элементов аскезы, но и напоминанием самому себе о прахе, из которого ты вышел и в который вернешься