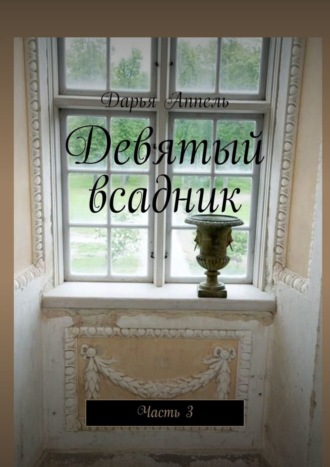
Полная версия
Девятый всадник. Часть 3
Графиня сперва отказалась от подобного дара – мол, что же во мне такого красивого, я признанная дурнушка, и нечего меня рисовать – но муж настоял.
«Мсье Кюгелен – признанный мастер, и на холсте ты увидишь свою внешность вернее, нежели в зеркале», – уверенно произнес муж.
«Как же так можно? Ведь зеркало показывает истину», – ответила Дотти.
«Видно, нет, ибо ты продолжаешь твердить о своей неприглядности с завидным упорством», – рассудил Кристоф и добавил, что уже договорился обо всем с художником и даже проплатил ему вперед, так что завтра – первая встреча.
«Картина будет висеть в моем кабинете, который ты с таким упорством хочешь переделать», – отвечал он, когда Дотти поинтересовалась, куда же он собирается повесить ее.
«Как будто ты против, Бонси», – усмехнулась она.
«О, вовсе не против, только, надеюсь, у меня тоже есть право выбора желанного убранства», – произнес Бонси. – «И да, будешь позировать, непременно надень Северную звезду. Тот комплект, который тебе дарили на свадьбу».
Дотти давно не надевала эти бриллианты и сапфиры. Отчего-то они казались ей не подходящими ни к одному ее туалету, слишком тяжеловесными, большими. Для них ей нужно . Во всех смыслах. дорасти
Сеансы у художника, оказавшегося весьма красивым молодым человеком, как успела заметить девушка, протекали всегда в присутствии двух горничных, задача которых заключалась в том, чтобы сидеть тихо и поправлять хозяйкину шаль или прическу по ее приказанию, красиво укладывать драпировки на платье. Рисовали ее в малой гостиной, рядом с развесистым цветком. Кюгелен объяснил, что фоном будет «естественная среда», – то есть, парк Петергофа, наброски которого он сделал летом. Доротея иногда усмехалась – нынче, когда за окном свирепствует непогода, они все воображают, будто она находится в некоем Эдеме, где в платьях с голой грудью и открытыми плечами совершенно не холодно, а шали нужны лишь для того, чтобы красиво обрисовывать фигуру.
Сеансы длились по паре часов, во время которых Дотти страшно скучала. И от нечего делать проигрывала в уме все дела прошедших дней.
Новости наполняли ее разум выплескивались в строки писем к братьям и отцу… Новости преимущественно хорошие, иногда скандальные, и каждая из них, казалось, имела особое значение. Она всегда делилась с ними мужем, но тот, кажется, не придавал значение тому, насколько важны эти сведения. А зря! Очень зря!
Другое еще занимало ее. После того, как она побывала у графини Строгановой впервые, месяц назад, странное, прежде незнакомое чувство зародилось в душе девушки. Можно было бы назвать его завистью, но лишь с большой натяжкой. Сама графиня Софья, ее манеры, обхождение, круг интересов, казалось, находились несоизмеримо выше на невидимой шкале, чем у Доротеи, не говоря уже о внешности и происхождении.
Дотти слышала, что говорили о муже графини – да и о их семье в целом, о его соратниках – в гостиной фрау Шарлотты или на раутах у вдовствующей императрицы. Вкратце – ничего хорошего. О Софье Владимировне шептались, будто она была в прошлом «слишком уж благосклонна» к государю, и пожилые женщины недовольно поджимали губы. От Доротеи ожидали, что она будет вторить им, а, узнав о приглашении в гости к Строгановым, накинулись с расспросами, при этом фрау Шарлотта проворчала: «Интересно, почему же вашему супругу непременно нужно дружить с ними?», но девушка предпочла промолчать, вопреки своему обыкновению. Долго она мучалась над вопросом: что же такого она испытывает по отношению к графине? Не сказать, чтобы Доротее были незнакомы терзания зависти. Конечно, всегда хочется получить то, чего нет. Но здесь она испытывала другое… Досада оборачивалась не на Софью Строганову, а на саму себя. Она взяла обыкновение часами простаивать у зеркала, внимательнейшим образом оглядывая саму себя, перебирать наряды, постоянно думая, достаточно ли изысканно они сидят, пытаться читать книги, в которых она мало что понимала. Давеча, когда муж застал ее за чтением Светония в оригинале – в книге она понимала только каждое третье слово – она с досадой сказала: «Я такая необразованная, Бонси». Она не запомнила, что же отвечал Кристоф. Кажется, ронял какие-то общие фразы, хвалил ее игру на фортепиано… Но что толком уметь играть по заранее записанным композиторами нотам, если та же графиня Софья, помимо фортепиано, владеет арфой и флейтой, да еще сама сочиняет мелодии? Дотти не стала этого рассказывать мужу, просто попросила его порекомендовать хорошие книги из его библиотеки. Она могла бы задать тот же вопрос и ее новой светской знакомой, но было стыдно признать свою неправоту. Более всего она опасалась не насмешек, а снисходительного тона, покровительства и заботливости. Ей и так уже было стыдно за свои неполные шестнадцать лет, слишком заметные в гостиной у Строгановых, рядом с этой дивно прекрасной женщиной с умом Афины Паллады. Хотелось выглядеть старше. Раньше казалось, что принадлежность к высшему свету и сам статус замужней дамы прибавляют ей лет, но в глазах других она до сих пор видела изумление, словно она пребывает не на своем месте.
Вместо совета по поводу книг Кристоф нанял ей учителей истории и географии, и нынче она почти каждый день слушала лекции о дальних странах и давних временах. Все это было крайне занимательным, да и в памяти откладывалось, но вскоре перестало Доротею остро интересовать. Что толку ей знать о сражениях и битвах? Или о том, сколько серебра добывают в Южной Америке и на какой точно параллели находится остров Куба? Возможно, мужчинам такие сведения покажутся крайне любопытными и полезными. Но Доротея слушала, позевывая, а на неизменную реплику преподавателя, пожилого профессора Йенского университета: «Есть ли у вас какие-нибудь вопросы ко мне, Ваше Сиятельство? Возможно, Вам что-то неясно?» неизменно давала отрицательный ответ. Позже она отказалась от уроков, так как начались сеансы портретирования, а на удивленные вопросы мужа отвечала так: «Он слишком неинтересно рассказывает». «Что именно тебе показалось неинтересным?» – задал вопрос Бонси, и Дотти не смогла на него ответить. Скорее всего, дело было в самих науках, а не в том, как излагал их преподаватель. Но цель была достигнута – теперь, при отсылках графини Софьи на какого-нибудь Марка Аврелия или Катона Доротея сразу понимала, о ком именно идет речь, и могла в общих чертах сказать, что же это была за личность в истории. Судьбы нынче живущих людей были не в пример интереснее, конечно…
«Наверное, Просвещение не для меня», – думала Дотти, меняя позу по указанию герра Кюгелена. – «А только для тех, кто в этом талантлив и кто более прилежен… К тому же, глупо чему-то учиться в моем возрасте».
Она вспомнила Фредерику. Вот кто умел рассказывать интересно, доходчиво и именно о том, что увлекало Дотти, что могло ей пригодиться в реальной жизни. Историю с географией она бы ей тоже рассказала совершенно иначе. Но где она сейчас?
При всех людях в жизни Доротеи ей отчаянно не хватало одного – подруги. Знакомых было полно. У сестры очень много забот, а ее обязанности при Дворе превышали даже Доттины. Позже та поняла, почему – перед вдовствующей императрицей за нее часто вступалась фрау Шарлотта, избавляя ее тем самым от самых нудных задач. У Марии такой свекрови не было. Подруги из института либо вышли замуж, либо ожидали замужества. Такие девушки, как она, оставались в одиночестве, вынужденные общаться только с теми, кто старше.
Было и другое. То, что уже начало несколько свербить в душе у Дотти. Брак всегда подразумевает рождение ребенка – так ей говорили, так и бывало у ее знакомых и родственниц. Она уже больше года замужем. Но никаких признаков не видит. Признаки она прекрасно знала – сначала прекращаются ежемесячные кровотечения, потом припухает грудь, начинается тошнота и дурнота, которая длится до тех пор, пока беременность не будет видна окружающим… Всякий раз, когда кровотечения запаздывали хоть на пару дней, Доротея начинала нервно, и в то же время с надеждой прислушиваться к себе, чтобы потом, с некоторым разочарованием, смешанным с облегчением, встречать очередное недомогание. Она всегда слушала, о чем говорят дамы, когда мужчин нет рядом. Истории часто пугали ее: у такой-то роды были неудачные, ребенок шел неправильно, застрял в родовых путях, и пришлось его резать и вынимать по частям; у другой все прошло хорошо, но сразу после родов не отошел послед, поэтому она изошла кровью, оставаясь в сознании до последнего… Каждые роды обсуждались, комментировались, действия акушерок или докторов осуждались или, напротив, восхвалялись, и Доротея вскоре уже узнала обо всем, что ей когда-нибудь предстоит. «Главное – не паниковать и быть готовой к тому, что это будет больно. Очень больно, причем долго, – может, даже в течение суток», – добавила как-то ее свекровь. Такие предупреждения Доротею, конечно же, пугали, но в то же время она понимала – дело это неизбежное, нечто вроде последнего этапа посвящения в статус женщины. Все знакомые дамы пережили этот этап, состоявший из нескольких длительных фаз – беременность, иногда неудачную, роды, некоторые – кормление грудью, затем снова беременности и роды, и вспоминали об этом примерно так, как мужчины вспоминают о сражениях и поединках, в которых принимали участие. И когда ее сестра недавно, как бы невзначай сказала, что находится «в ожидании», Доротея только головой поникла, хотя и выдавила из себя улыбку, радостное поздравление, как и полагается в подобных случаях. От нее не укрылось чувство превосходства, отразившееся в серых глазах сестры, и она не могла этому ничего противопоставить.
«Кстати», – спросила тогда Мария. – «Слышала, что ты берешь уроки истории и географии?»
«Да, беру», – подтвердила графиня Ливен и начала рассказывать обо всем, что на них узнала.
«Нужно ли это тебе? Неужели ты не помнишь слова maman – лучшая наука для женщины та, которая ей позволяет вести хозяйство и радовать мужа?» – произнесла старшая из сестер, изумленно вглядываясь в сестру. – «Впрочем, я понимаю, зачем оно тебе нужно. Ты же сейчас дружишь с графиней Строгановой…»
«Я у нее бываю иногда, но называть наше общение дружбой не стала б», – отвечала несколько неуверенно Дотти, чувствуя, что сестра клонит разговор куда-то не туда.
«Maman знает о том», – продолжала Мари. – «И не сильно одобряет твои к ней поездки… Интересно, куда смотрит твой муж?»
Доротея не стала говорить, что ее муж общается с «графом Попо», как прозывали в свете Строганова, едва ли не чаще, чем она сама – с графиней Софьей. Она поняла, что сестра обязательно расскажет о том Марии Федоровне, и последствия для мужа будут не очень хорошие.
«Bonsi дает мне полную свободу выбирать себе знакомых и друзей», – с некоторой гордостью в голосе произнесла Дотти.
«И зря. Скажу тебе откровенно – о твоих разговорах с молодыми людьми на улице и в свете говорят при Дворе… И не одобряют», – загадочно отвечала ее сестра.
«Кто именно при Дворе?» – откликнулась Дотти, вспомнив уже пережитый ею летом случай.
«Так вот, цесаревич Константин говорил со мной о тебе», – продолжила Мари.
«Уж кому судить о приличиях, как ему!» – расхохоталась Доротея. – «Лучше бы смотрел за собой».
«Ты не понимаешь», – Мари резко понизила голос. – «Если он уже справляется о тебе, то, значит, ты пользуешься определенной репутацией…»
Дотти поняла, что хотела сказать ее сестра, и густо покраснела. Потом нашлась, что сказать:
«Правда, ma petite soeur? Мне кажется, что у тебя обстоят дела еще хуже, раз с тобой он разговаривает напрямую, а обо мне справляется через третьих лиц».
Мария Шевич приняла такой вид, как будто Доротея только что дала ей смачную оплеуху.
«Я, кажется, не дала повода себя оскорблять», – с трудом выдавила из себя ее собеседница, причем вид у нее был такой, словно она едва сдерживает тошноту. Доротея невольно отодвинулась от нее, испугавшись за сохранность своего платья.
«А зачем ты лезешь туда, куда тебя не касается?» – откликнулась графиня Ливен. – «И тогда, и сейчас…»
«Я всего лишь хочу тебе помочь», – лицо Марии было совсем несчастным. Та прикрыла рот салфеткой и отвернулась. Дотти понимала, что с ней творится. В первые месяцы, как все рассказывают, многих женщин одолевает дурнота. Сестру ей было вовсе не жаль.
«Тогда ты тоже очень хотела мне помочь, да?» – накинулась на нее Дотти, не обращая внимания на то, что плечи Марии непроизвольно подергиваются. – «Из-за твоей помощи у меня чуть не расстроилась помолвка! А все потому, что тебе был нужен мой муж!»
Мари только выдавила из себя:
«Ты злая! Какая же ты злая… Впрочем, с кем поведешься…», – вскочила и выбежала из комнаты. Очевидно, позывы к рвоте стали совсем невыносимыми. Доротея развернулась и вышла из ее гостиной, не удосужившись попрощаться с ней. С тех пор они более не переписывались, и брат ее Константин, весьма благонамеренный и добрый молодой человек, тщетно доискивался причины ссор двух сестер. Потом формальные отношения были восстановлены, они, бывая в свете, здоровались и кланялись друг другу, но не более того.
Дотти поморщилась, вспомнив о случившемся. Она ни с кем не хотела это обсуждать. Уж конечно, муж для подобных разговоров не годился, равно как и братья – чего стоят неуклюжие попытки Константина вмешаться! Свекровь – тем более. Может быть, только Фемке. Или графиня Софья. Они бы не стали говорить общие слова о необходимости поддерживать родственные отношения, забыть былые обиды. Нет, они бы выслушали спокойно и все поняли.
«Итак, Ваше Сиятельство, еще пара сеансов, и картина будет готова», – объявил мсье Кюгелен через некоторое время, откладывая кисти в сторону.
«Можно, я взгляну», – Дотти передала шаль горничной и двинулась в сторону мольберта, но художник встал ей наперерез, покачав головой. С губ его не сходила тонкая улыбка.
«Ваш супруг хотел бы, чтобы портрет стал для вас сюрпризом. Да и мне, честно говоря, не нравится показывать незаконченные вещи своим заказчикам».
Доротея только вздохнула.
«Не беспокойтесь, результат вас приятно удивит», – продолжил художник, складывая мольберт и собирая краски.
…Вечером Дотти, лежа в кровати с мужем, вдруг вспомнила про сестру – второй раз за день, зачем же?
«Знаешь. У Мари будет ребенок», – проговорила она.
Кристоф, казалось, задремал, – долго не откликался. Но через какое-то время добавил:
«Передай ей мои поздравления».
Дотти не упомянула, что никаких поздравлений она передавать не будет по той простой причине, что зареклась общаться с сестрой. Она продолжила:
«Знаешь, у нас есть одна комната… Я думаю, как ее обустроить – под гостей или как детскую?»
«Обустраивай ее под гостей», – кратко и уверенно проговорил ее муж.
«Но ведь…»
Кристоф повернулся к ней и пристально взглянул ей в лицо. В неверном свете ночника лицо его показалось Доротее мрачным и озабоченным.
«Ты хочешь сказать, что тоже в тягости?» – спросил он напрямую, и в его голосе она не расслышала ни радость, ни надежду, скорее, какое-то отчаяние. – «Ведь я же…»
«Нет, совсем нет», – произнесла Дотти удивленно. – «Но когда-то наступит этот день… Рано или поздно».
Ей показалось, что муж вздохнул с облегчением.
«Лучше поздно, чем рано», – произнес он, закрывая глаза. – «Пока гости нам важнее… Приедет твой отец – где его поселим?»
Доротея не смыкала глаз. Вопросы роились в ее голове, но она не решилась тревожить мужа, чтобы их всех задать. Все же ему завтра вставать ни свет, ни заря.
Понятно, что ее Бонси детей не хочет. А, может быть, просто не ? В гостиной у графини Ливен-старшей давеча обсуждали и такое. «Обычно вину в неплодном браке сваливают на женщину», – говорила одна знающая дама. – «Но, как показывает жизнь, мужчины тоже бывают виновны в этой трагедии не менее, а иногда и более… Понимаете ли, беспорядочные связи…» может
Доротея невольно покраснела, а фрау Шарлотта, увидев реакцию невестки, мигом перевела разговор на куда более невинную тему.
Нынче Дотти вспоминала эти слова, и они вгоняли ее в краску. Почти каждый день они с Бонси близки. Иногда и по несколько раз подряд. Она могла быть уже беременной. Значит, дело либо в ней, либо в нем. Но если он так явно озвучивает свое нежелание иметь детей, то вполне возможно, что . Об этих мерах говорили шепотом, да таким, чтобы Дотти не расслышала, поэтому ничего конкретного она не уяснила. Потом вспомнила – когда они уже распалялись до крайности, и он уже дрожал, и глаза его делались совсем черными, он в последний миг резко отрывался от нее и с глухим стоном падал рядом, животом вниз… Ей всегда хотелось, чтобы объятья не размыкались до самого конца, и она часто держала его за руки, но в тот, последний миг, когда становилось особенно горячо, Бонси все же вырывался из плена ее рук, и только потом, когда последние судороги затихали, возвращался к ней… Теперь Доротее было понятно, зачем он это делал. Немудрено было догадаться. Но ? Разве ж суть брака – не в рождении наследников? Иначе зачем же все это? Надобно было спросить у него назавтра. принимает меры зачем
В обед Кристоф сообщил ей, несколько равнодушным тоном:
«Мне надо будет уехать в Ригу недели на две… Послезавтра выезжаю».
Через две недели должно уже наступить лютеранское Рождество, а нынче сезон был в самом разгаре. И что, ей никуда не выезжать в течение этого времени? Немыслимо! Это все она и высказала мужу, на что он отвечал:
«Алекс будет тебя повсюду сопровождать вместо меня, я уже договорился».
Потом, выжидающе глядя на нее, произнес:
«Думаю, в Ригу ты со мной не захочешь поехать».
«Да меня никто ж не отпустит!» – воскликнула Дотти. – «Надобно будет у Ее Величества отпрашиваться, а я не успею уже…»
Муж выжидающе смотрел на нее, а потом тихо проговорил:
«Интересно, твоя покровительница знает, что ты замужем, или запамятовала уже?»
Слова его показались Доротее дерзкими без меры. Кроме того, она не очень поняла, почему он с самого начала отмел даже саму возможность того, что она могла захотеть его сопровождать. Не то, чтобы ей сильно туда хотелось… Рига запомнилась девушке как нечто провинциальное без меры, отчего-то связывалась с холодом и льдом, еле развеиваемыми слабым теплом от печей. Вспомнился пузатый замок, вокруг которого стояло несколько полосатых будок с часовыми, вид на замерзшую широкую реку сквозь заметенные морозом окна, и какой-то затхлый, сырой запах в комнатах с низкими потолками.
«А я, пожалуй, поеду с тобой… Мне Катхен пишет, будто они уже переехали на сезон в Ригу и у них оркестр, будут балы обязательно. Я по ним всем соскучилась, видишь ли», – заговорила она, уклоняясь от вопроса мужа, который, услышав ее слова, казалось, принял несколько досадливое выражение.
«Но как же Ее Величество?» – спросил он, словно поддразнивая ее. – «Боюсь, по возвращению тебя ждет большой абшид».
Доротея покраснела. Внезапно она вспомнила очень давний разговор, еще перед свадьбой, когда муж пообещал заступаться за нее перед власть предержащими, в частности, перед Марией Федоровной.
«Я постараюсь… постараюсь отпроситься. Через Mutterchen», – выговорила она нерешительно.
«Ma chere», – муж решительно отложил от себя столовые приборы и отставил тарелку с недоеденным жарким. – «Сколько тебе можно отпрашиваться у нее? Ты прежде всего моя жена, потому уже крестница императрицы, дочь ее лучшей подруги, и прочая и прочая. И надо бы ей понимать уже…»
Он запнулся, увидев нескрываемый ужас в глазах Доротеи. Она впервые слышала от мужа такие слова по отношению к власть предержащим. Особенно по отношению к maman, к Марии Федоровне, такой величественной и несчастной. Ей хотелось откровенно возразить, упрекнуть его в том, что он забывается, что он просто не может такое говорить всерьез. Но в то же время она осознавала, что ее «Бонси» прав.
«Зачем ты так про нее? Она вовсе не такой тиран. Ты, верно, Альхена наслушался», – проговорила она тихо. – «Тот тоже вечно недоволен».
Кристоф понимающе усмехнулся. Алексу было за что быть недовольным. Ведь всякий раз императрица отчитывала его за «беспорядочный образ жизни», упоминая всех женщин – дворцовых служанок, фрейлин, актрис – с которым у него была связь. С мадемуазель Шевалье, нынче отправленной назад в Париж, он тоже развлекался, но Дотти никогда бы не осмелилась вызнать у него подробности, равно как и он – рассказать их. Но «нерачительная растрата денег», по мнению Марии Федоровны, была куда большим грехом Алекса, нежели бесчисленные связи – довольно обычное дело для светских молодых людей его возраста. Естественно, подобный контроль кого угодно вывел бы из себя.
«Я и не говорю тут про тиранию», – с досадой произнес Бонси. – «Можешь решить, что ты хочешь для самой себя?»
Доротея опустила голову.
«Поеду с тобой», – быстро проговорила она в ответ, не поднимая на него глаз.
«Если у тебя будут спрашивать отчета, то я сам явлюсь перед императрицей и все ей объясню», – заговорил Кристоф. – «Успеешь собраться?»
«Конечно, успею», – усмехнулась она. – «А твоя сестра не будет досадовать на то, что мы нагрянем нечаянно?»
«Знаешь, сколько раз я к ней эдак запросто приезжал?» – отвечал ее супруг. – «Катхен привычная, а с мужем своим она и так поговорит…»
Доротея оборотила на него взор глаз, в свете свечей блистающий ярко.
«Как там продвигается портрет?» – невзначай спросил Кристоф. – «Тебе еще не надоели эти сеансы?»
«Откуда ж мне знать, как он продвигается, когда господин Кюгелен мне никогда ничего не показывает!» – капризно произнесла Дотти. – «Он сказал, что это сюрприз. Небось, нарисует меня сущей уродиной».
«Ну уж нет, стиль у него всегда один и тот же», – разуверил ее граф. – «Видела же портрет царской семьи его кисти? Он постарается куда лучше».
«А почему же ты не хочешь сам рисоваться?» – вдруг спросила Дотти.
Вопрос, очевидно, застал ее мужа врасплох. Он пожал плечами и проговорил:
«Чего уж там рисовать?»
«Даже миниатюру не хочешь?»
«Да зачем? Не заслужил я портретов», – Кристоф посмотрел в сторону.
«А я разве заслужила?»
«Ты – дело другое», – отвечал он отстраненно. – «Что ж, надеюсь, дня на сборы тебе хватит».
«А скажи, зачем туда ехать?» – спросила Дотти.
«Я ж сказал – по поручению государя».
«По какому поручению?» – немедленно вцепилась в него девушка, и ее Бонси, очевидно, очень подосадовал на то, что упомянул об этом.
«Так… нужно составить один доклад и посмотреть на состояние дел в губерниях», – расплывчато проговорил Кристоф. – «По военной части».
В военной части Доротея не разбиралась совсем. Она ее совершенно не интересовала. Какой-то провиант, передвижения войск, цифры и длинные перечни непонятных названий и терминов. Она безмерно уважала своих родственников за то, что во всем этом находят какой-то смысл. От Дотти же суть всегда ускользала, и она даже не досадовала на это.
«Я и не сомневалась», – проговорила она несколько досадливо.
«Ну и надо проверить состояние наших имений», – продолжал Кристоф. – «Это мне уже поручила матушка».
Доротея как раз не была сегодня у свекрови, поэтому та ничего не сказала о поездке мужа.
«Но тебе не обязательно ехать в эти деревни», – добавил граф, увидев, как жена помрачнела. – «Оставайся в Риге, там, верно, будет весело…»
«Надеюсь на это», – и девушка кинулась в обсуждение тамошних знакомых, балов, обедов…
«Главное, не слишком поражай местных дам туалетами. Они в сей науке не слишком сильны. Катарина и так у них сидит как бельмо на глазу, а тут еще и ты во всем петербургском блеске», – добавил Кристоф.
«Ну, рядиться в то, что они там обычно носят, я не буду», – уверила его супруга.
«Дорогая, нам и так там все завидуют», – вздохнул граф. – «Не хватало, чтобы и ты пострадала от сей зависти».
Он мог бы и не предупреждать. Об этом чувстве, «чудовище с зелеными глазами», Доротея уже прекрасно была наслышана. Раньше ее даже радовало, когда ей завидуют. Этот факт возвышал ее в своих собственных глазах. Но нынче стала все более понимать, что ничего в этом хорошего нет.
«Это ты говоришь из личного опыта?» – почему-то поинтересовалась она у меня.
«Дорогая», – сказал он утомленным голосом. – «Я всегда все говорю из личного опыта. И завидовали мне по-черному. Полагаю, что до сих пор завидуют…»
«Кто?» – ахнула девушка.
«Ты сама скоро о них узнаешь», – загадочно произнес муж. – «Обычно они не молчат, а вполне откровенно о себе заявляют».
И этот факт ей был тоже известен. Вспомнилась сестра, все ее слова и поступки. И она спросила:
«А что, если завистником оказывается самый близкий человек?»
Кристоф пожал плечами.
«Это доказывает только то, что он ни в коей мере тебе не близок».
«Ну а если он из твоей семьи?»
«Сложные ты вопросы задаешь на ночь глядя», – слабо улыбнувшись, откликнулся ее супруг. – «Кабы я знал на них ответ…»









