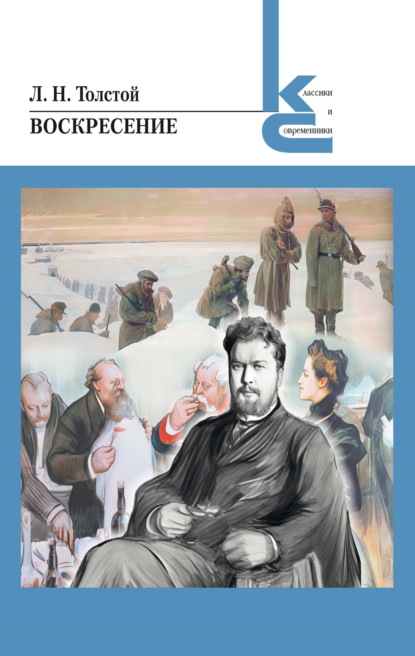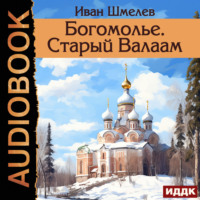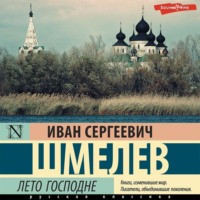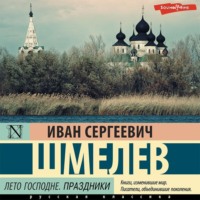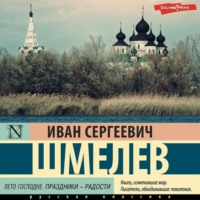Полная версия
Человек из ресторана
– Осторожней, пожалуйста… И скажите, что Любочка. Но помните…
Сам даже дверь отворил.
Только я наверх внес, сейчас Игнатий Елисеич подлетел, букет вытянул и на руку от себя отставил. И языком щелкнул, как фигурку увидал.
– Вот так штучка! – И пальцем пощекотал.
Очень все удивлялись и посмеялись. Потом через всю белую залу для обращения внимания понес. Встал перед Иваном Николаевичем, а букет на отлете держит. Очень красиво вышло. А тот ему:
– Дайте на стол! – даже строго сказал и платочком обтерся.
Очень им букет понравился, и директор хвалил. А тот все:
– Вот мой вкус! Очень великолепно?
– Очень, – говорит, – хорошо, но она как взглянет… Она от нас в театр все собирается…
– Пустяки… – И пальцами пощелкали.
А тут пришел офицер и занял соседний столик, саблей загремел. Оркестр играет номер, а барышни уж заметили, конечно, букет и поглядывают. Не случалось этого у нас раньше. Ну, в кабинетах бывали подношения разным, а теперь прямо как на театре. А Капулади и не глядит. Водит палочкой, как со сна. Конечно, ему бы поскорей программу выполнить и фундамент заложить. А барышня Гуттелет такая бледная и усталая смычочком водит, как во сне. А офицер вытащил из-за борта стеклышко, встряхнул и вставил в глаз. Отвалился на стуле и на оркестр устремил в пункт, где она в черном платье с кружевами и голыми руками сидела.
Уж видно, на что смотрит. Вот, думаю, и еще любитель. Много их у нас. Почти все любители. А он вдруг меня стеклышком:
– Вот что, гм…
Вижу, будто ему не по себе, что я им в глаза смотрю, а сам о них думаю. Точно мы друг друга насквозь видим.
– Это, – говорит, – давно этот оркестр играет? – И глаза отвел.
А я уж понимаю, что не это ему знать надо. Я их всех хорошо знаю, – все больше обходом начинают.
– Так точно, – говорю. – Третий год…
Как не знает… И раньше бывал у нас. Знает, отлично знает.
– А-а-а… – А потом вдруг и перевел: – Кто эта, справа там от середки, худенькая, черненькая?
Вот ты теперь, думаю, верно спросил.
– Нам неизвестно… Недавно поступили.
А тут оркестр зачастил – к концу, значит. Карасев и дал знать метрдотелю:
– Подайте мамзель Гуттелет!
Игнатий Елисеич поднял букет кверху и опять его на руку отставил и так держит, что отовсюду стало видать, и дожидается. И все стали смотреть, а директор поднялись и вышли. А барышни так спешат, так спешат, понимают, что сейчас необыкновенное подношение будет, и, конечно, интересуются, так что Капулади палочкой постучал и реже повел. А та-то, как опустила глаза от люстры, посмотрела на букет и как бы не в себе стала. Только Капулади все равно. Водит и водит палочкой, как спит. Потом сделал вот так, точно разорвал слева направо, и кончилось.
Сейчас метрдотель перегнулся, даже у него фалды разъехались и хлястик показался от брюк, – очень пузастый он, – и букет через подставки подает двумя руками. Очень торжественно вышло и обратило большое внимание. А барышня даже откинулась на стуле и опустила руки. И Игнатию Елисеичу пришлось попотеть. Все протягивал букет в очень трудном положении, как из-за стульев что вытаскивал, и стал у него затылок вроде свеклы. И даже боком изогнулся, чтобы барышню от публики не заслонить. Потом его Иван Николаевич распушил. А как он протягивал, сам-то Иван Николаевич тоже напряглись в направлении букета и лафитничек держат у губ, будто пьют за здоровье. А у метрдотеля голос густой, и на всю залу отдалось:
– Вам-с… букет вам-с от Ивана Николаевича Карасева!..
Но только это сразу кончилось. Капулади увидал, как та удивлена, сам взял букет и поставил на пол у нотной подставки. Потом сразу палочкой постучал, и вальс заиграли. А господин Карасев приказали мне директора пригласить.
Конечно, стало очень понятно, для чего букет. И все принялись барышню рассматривать. А меня даже один гость знакомый, старичок, пивоваренный заводчик, господин Арников, очень отважный насчет подобных делов, подозвали и задали вопрос:
– Это карасевская, что ли, новенькая, хе-хе?.. Ничего това-рец…
Вот. Как знак какой поставлен. Это и я пойму. Артисткам там – другое дело, а тут ее и не слыхать в музыке. Это уж обозначение, что, мол, желаю тебя домогаться и хочу одолеть!
Так явственно помню я все, потому что этот самый Карасев и потом меня очень беспокоили, а у меня дома такое тревожное положение началось. С Кривого-то и началось…
И много хлопот мне в тот вечер выдалось по устройству замечательного пира, а на душе – как кошки… Посмотришь на окна и думаешь: а что-то дома? Ноет и ноет сердце. И все кругом – как какая насмешка. И огни горят, и музыка, и блеск… А посмотришь в окно – темно-темно там и холодно. Рукой подать, за переулком, дом барышень Пупаевых, а на заднем дворе, во флигельке, – вонючий флигелек и старый, – Луша халаты шьет на машинке для больницы… И думается: а что завтра-то?
А господин Карасев с директором свое:
– Она, конечно, слышала обо мне? Я ей могу место устроить в хорошем театре… И у меня такая мысль пришла, чтобы нам троим поужинать…
А Штросс ему наперекор, хоть и вежливо:
– У нас от них подписка отбирается… и у нас аристократический тон и семейный… Вы уж простите, глубокоуважаемый…
А господин Карасев, конечно, привыкли видеть полное удовлетворение своих надобностей и настойчиво им:
– Я не по-ни-маю… я не с какой стороны… а из музыки…
И директор им объясняет:
– Будьте спокойны, я поста-ра-юсь, но…
А офицер вдруг поднялся и – к Капулади. Как раз играть кончили. Поздоровался за руку и в ноты пальцем что-то… И барышням поклонился и про ноты. В руки взял и головой так, как удивлен. Капулади прояснел, стал улыбаться, и усы у него поднялись, а барышни головки вытянули и слушают, как офицер про ноты им. Пальцем тычет плечами пожимает. Пожимал-пожимал, на подставку облокотился и саблей-то букет и зацепи! И упала Фрина набок. Но сейчас поднял и к барышне Гуттелет с извинении все оглядывается, куда поставить. И спрашивает ее. А она вся пунцовая стала и головкой кивнула. Он мне сейчас пальцем:
– Унесите. Мамзель просит убрать!
Куда убрать? Я было замялся, а он мне строго так:
– Несите! Что вы стоите? Мамзель просит убрать!
А тут метрдотель налетел и срыву мне:
– В уборную снести!
И понес я букет мимо господина Карасева. Прихожу, а офицер с барышнями про игру разговаривает, и лицо такое умное:
– Я, – говорит, – сам умею… Могу слышать каждую ноту… Это даже удивительно, как, Дамская игра, – говорит, – много лучше…
А с Капулади по-французски. А тот, как кот, жмурится и головой качает:
– Та-та… снаток… приятно шюство… та-та… Еще буду играть.
Проснулся совсем, палочку взял и очень тонкую музыку начал.
А господина Карасева взяло, вот он и говорит Штроссу:
– Это кто такой, лисья физиономия?
– А это князь Шуханский, гусар…
– A-а… прогорелый!.. – И перстнями заиграл.
А потом так радостно:
– У меня план пришел!.. Всему оркестру ужин?.. Ну, это-то возможно или как?.. Я член из консерватории… Вы скажите…
А Штросс уж не мог тут ничего и говорит:
– Конечно, они всегда получают у нас ужин… Ежели согласятся…
– От вас зависит!.. Вашу руку!..
А я-то стою позади и вижу аккурат его затылок. Он у них очень широкий, и на косой пробор, и выглажен. Стою и думаю… А-ах, сколько же вас, таких прохвостов, развелось! Учили вас наукам разным, а простой науке не выучили, как об людях понимать… Отцы деньги наколачивали, щи да кашу лопали, с людей драли, а вы на такое употребление. И все ниспровержено! Смотрю ему в затылок и вижу настоящую ему цену!
Потом директор Штросс потолковали с Капулади и барышнями и говорит:
– Ничего не имеют против, а напротив…
– Вот видите, какой у меня всегда хороший план! Теперь, прошу вас, обдумаем, чтобы все было как следует и чтобы очень искусственно и сервировка тонкая…
А тот ему, уж в хорошем настроении:
– Я бы предложил в гранатовом салоне. Ваша мысль очень хорошая…
И пошли на совет… Еще бы не хорошая! На сорок персон ужин со всеми приложениями!
Ну, и вышло так, что, я полагаю, долго в конторе счет выписывали и баланц выводили. Велели такого вина пять бутылок, которое у нас очень редко и прямо в натуральном виде подают, в корзине, и бутылки как бы плесенью тронуты. Несут на серебряном блюде двое номеров и осторожно, потому что одна такая бутылка стоит больше ста рублей и очень старинного происхождения. А такое у нас есть, и куплено, сказывали, у одного поляка, у которого погреба остались от дедов невыпитыми и который пролетел в трубу. Более ста лет вину! И крепкое и душистое до чрезвычайности.
Сто двадцать пять рублей бутылка! За такие деньги я два месяца мог бы просуществовать с семейством! Духов два флакона дорогих, по семи рублей, сожгли на жаровенке для хорошего воздуха. Атмосфера тонкая, даже голова слабнет и ко сну клонит. Чеканное серебро вытащили из почетного шкафа, и хрусталь необыкновенный, и сербский фарфор. Одни тарелочки для десерта по двенадцати рублей! Из атласных ящиков вынимали, что бывает не часто. Вот какой ужин для оркестра! Это надо видеть! И такой стол вышел – так это ослепление. Даже когда Кавальери была – не было!
Зернистая икра стояла в пяти серебряных ведерках-вазонах по четыре фунта. Мозгов горячих из костей для тартинок – самое нежное блюдо для дам! У нас одна такая тартинка рубль шесть гривен! Французский белянжевин – груша по пять целковых штучка… Такое море всего, такие деликатесы в обстановке! И потом был секрет: в каждом куверте по записке от господина Карасева лежало на магазин Филе[4] – получить конфект по коробке.
Отыграл оркестр до положенного часу, убрали барышни свои скрипочки и собрались. А уж господин Карасев так это у закусочного стола хлопочут, как хозяин, и комплименты говорят:
– Мне очень приятно, и я очень расположен… Пожалуйте начерно, чем бог послал…
Все так стеснительно, а Штросс как корабль плавает с сигарой и очень милостиво так себя держит, с барышнями шутят. И вдруг господин Карасев пальцами так по воздуху и головой по сторонам:
– Кажется, еще не все в сборе…
А Капулади уж большую рюмку водки осадил и икрой закусывает с крокеточкой, полон рот набил и жует, выпуча глаза.
– А-а-а… Мамзель Гуттелет нэт… голова у ней… и мамаша прикодиль…
– А-а-а… Пожалуйста… кушайте…
Только и сказал господин Карасев. И так стало тихо, и барышни так это переглянулись. И такая у него физиономия стала… И смех и грех! Сервировали ужин! А Капулади чокается и вкладывает. И Штросс чокается, и господин Карасев тоже… чокается и благодарит. И лицо у них… физиономия-то у них, то есть… необыкновенная! А там-то, в конторе-то… счетик-то… баланц-то уж нанизывает Агафон Митрич, нанизывает безо всякого снисхождения. Да с примастью, да по тарифу-то, самому уважаемому тарифу… Да за хрусталь, да за сервизы, да за духи, да за…
Вышел я в коридор, смотрю – офицер-то и идут.
– Что это, свадьба здесь? – спрашивает про пир-то в гранатовом салоне.
– Никак нет, – говорю. – Это господин Карасев всю музыку, весь оркестр, ужином потчуют.
Сморщил лоб и пошел.
И хотел я ему сказать, какой у них приятный ужин получился, но, конечно, это неудобно. Наше дело ответить, когда спрашивают. А очень была охота сказать.
IVПришел я из ресторана в четвертом часу. Луша дверь отперла. Всегда отпирала она мне, сон перебивала. И вот спрашиваю ее про Кривого. Оказывается, не приходил. И гадала она на него весь вечер, и все фальшивые хлопоты и пиковки. Пустое, конечно, занятие, но иногда выходит очень верно. И все казенный дом выходил – значит, как бы в участке заварил кляузу. Фальшивые-то хлопоты…
– Чует, – говорит, – мое сердце… Вон у Гайкина-то сына заарестовали. Уж не он ли это?.. Еще Гайкин-то тебя все про Кривого пытал, будто он у него денег просил на резиновую торговлю…
И растревожила она меня этими словами так, что не могу уснуть. А это верно, у Гайкина, лавочника, сына действительно заарестовали. Совершили обыск и нашли книги недозволенные. А он был студент, и мой Колюшка у него раньше книгами пользовался, но потом я сам забрал две книги и самому Гайкину отнес. А Кривой всегда у них в лавке пребывал, будто за папиросами, и все приставал к старику резиновый магазин в компании открыть.
Так это мне вдруг – а ведь Кривой это! Утром сам проговорился спьяну… А про сыщиков я знал, что они рассеяны везде, но только их трудно усмотреть. А Кирилл Саверьяныч даже одобрял для порядка и тишины. Но я-то знаю, что они могут быть очень вредны. Агафья Марковна, сваха, рассказывала, потому что сватала одного сыщика, и он ей открыл, как они избавляют от разорения. И когда меня обокрали и унесли часы, сыщик все разыскал, и я дал ему за хлопоты красную, но если насчет людей, то может быть очень вреден. Сказал я Луше, что нет ли у Колюшки каких книг, но она меня успокоила. Пытала она Колюшку весь вечер, и он ей побожился, что ничего нет.
– Он, – говорит, – охапку какую-то снес вечером к Васикову… И скажи ты, – говорит, – этому Васикову, чтоб он к нам лучше не ходил. Он все Колюшку сбивает…
Так мы и решили. И я даже хотел просить Кирилла Саверьяныча, чтоб он принес ему хороших книг, настоящих. Про историю у него были, от которых он умный стал. И вдруг звонок ударил.
Соскочил я босой, отпер. Оказывается, Кривой, и в очень растерзанном виде. Нового пиджака на нем уж нет, а какая-то кофта, и лицо прямо убийственное. Так это у меня сперва поднялось против него, не хотел допускать. Но не могу слова найти, как ему сказать, а дорогу ему загородил. И он молчит. А потом вдруг тихо так и твердо:
– Вот и я! Ну, что же? Могу я войти в свою квартиру?
Гордо так, а голос не свой. Однако не входит, а как бы и просится. И хоть и в кофте, но все равно как во фраке, и по тону слышно, что может затеять скандал. И боится как будто. Дрожание у него в голосе. Ну, думаю, завтра я тебя, друга милого, обязательно выставлю, только ночь переночуешь. И говорю ему строго, что спать пора и зачем так оглушительно звониться. А он вдруг как проскочит у меня под рукой и говорит:
– Чи-то-сс? – прямо к лицу и винным перегаром. И как шипенье голос у него стал. – Звонки для звона существуют! Заведите английские замки!
И скрылся в свою комнату. Плюнул я на эти дерзкие слова. А Луша мне покою не дает:
– Болит у меня сердце… Поговори ты с ним по-доброму. Он спьяну-то тебе скажет, жаловался он на нас или нет. А то я ни за что не усну… Томление во мне…
Но я терпеть не могу пьяных и сказал, что не пойду на скандал. И уж стал я засыпать, Луша меня в бок:
– Послушай-ка, Яков Софроныч… Что это он там… урчит что-то… Даже за душу берет, а ты как бесчувственный. Выпроводи ты его, что ли…
Стали мы слушать. Поглядел я в переборку, где обои треснули, – свету нет, но слышно, как у него постель скрипит и какие-то неприятные звуки. Так и рыкает. За сердце взяло, как неприятно. Как из нутра у него выскакивает. Постучал я – без последствий. А Луша требует: угомони да угомони.
– Может, он при расстройстве что скажет… Поди!
Зажег я свечку и прошел к нему. Вижу – лежит Кривой на кровати одемшись, ткнулся головой в ситцевую подушку и рыкает.
– Прохор Андрияныч… – спрашиваю. – Что это у вас за комедия опять? Мы тоже спать хотим… Так непозволительно себя ведете и еще по ночам спать не даете…
Вывернул он голову и одним глазом на меня уставился, как не понимает. А лицо у него в слезах и страшный взгляд.
– Ничего, ничего… У меня тут… – И показал на грудь.
Первый раз услыхал я настоящий его голос. И очень жалко посмотрел, будто его гнать хотят. Знал я, что у него жена с околоточным сбежала и сынок у него на пятом году помер. Это он Черепахину открыл. И сказал я ему тогда по душам:
– Вы лучше объяснитесь начистоту. За пиджак я вам заплачу хоть три рубля… Зла мы вам не хотели, а вы на нас так ополчились… Будете вы нам зло делать, вы скажите? Вы сами объявили, что сообщите, и перевернули наш семейный разговор… и мы вас опасались, это правда… Скажите все, и мы разойдемся по-мирному… Что же делать, раз ваша такая специальность… Но не губите людей!
А он привстал и головой так:
– Так, так… Вы очень добрый человек… Продолжайте…
– Вы, – говорю, – не думайте, что мы бесчувственные какие… Только скажите от сердца и не доводите до неприятности… А вот даже как: я вам даже пирожка принесу закусить, чтобы вы не думали…
Сказал, чтобы его в чувство ввести и открыть его планы!. А он подался ко мне, уставил глаз и шипит:
– Чи-то-сс? Пир-рожка-а? Это вы что же, на смех? На тебе пирожка! Ты вот, сукин сын, такой мерзавец, Кривой… Вы меня все Кривым!., а мы тебе пирожка?.. А? Вам за пирожок надо покою ночного? Купить меня пирожком? А утром вы мне пирожка предложили? Вы два пирога пекли и не предложили!.. Из-за вас меня Гайкин из лавки попросил!.. Я вам прощаю!
И так рукой торжественно и сел на кровать. Слышу вдруг – топ-топ. Колюшка из-за двери голову выставил и меня за плечо:
– Что это вы его, с квартиры гоните?
– Ничего я не гоню! – говорю. – А вот опять… не в себе…
А тот действительно голову в руки и трясется. Смотрю, Колюшка сморщился и подходит к Кривому, и голос у него дрожит:
– Оставьте, пожалуйста… Что за пустяки и как вам не стыдно!..
Тогда Кривой поднялся, запахнул свою кофту и так трагически:
– Можете гнать! Меня сегодня из участка выгнали, теперь вы!.. Конец!
– Как, – говорю, – выгнали? за что?
Ничего не пойму. А он срыву так:
– Гоните в шею! Сейчас прямо на улицу, в темноту! Вы только погоните – и я в момент! Не беспокойтесь…
И не вовсе пьян, а так странно. Схватил подушку, гитару со стены сорвал, под кровать полез, шарит там, юлит, подштанники вытащил и в простынку увязывает, книжку из-под матраса трепаную достал, графа Монте-Криста. И увязал в узелок.
– Думаете, места не найду? Я и без места могу… Все равно…
Шебаршит и шарит вокруг себя. Опять из узла все выкидывать стал.
– Можете себе присвоить! Не надо мне ничего… За квартиру получите из имения… Я рассчитываюсь… До свиданья!
Пошел было, но я его за руку – стой!
– С ума, – говорю, – не сходите и скандалу не делайте… Куда вы пойдете, раз ночь на дворе?..
Посмотрел он на окно и назад повернул, на кровать сел. Тощий он был и взъерошенный, и глаза какие-то такие. Видать было, что положение его очень отчаянное, а только храбрится в нетрезвом виде. Знал я, что у Луши он тридцать копеек занимал и вечером обещал принести и не принес. Очень упрямый и сам стирал свои рваные подштанники в комнатке, чтобы люди не видали. И насилу признался, что в участке служит, а все хвастал, что приказчиком в резиновом магазине. А это он раньше в резиновом-то был, а потом, после расстройства, запил и в писаря пошел.
И спать-то мне хочется, а он сидит и томит. Вот я и говорю:
– Не принимайте к сердцу… Прогнали – другое место найдете… Мало ли местов!..
А он мне гордо так:
– Во-первых, меня не прогоняли! Я сам приставу в морду плюнул! У меня тетка в имении, у ней сто тысяч в банке!.. Чи-то-ссс?! Извините-с… Я не какой-нибудь обормот!
– Ну и хорошо, и не напускайте на себя…
– Ну, это не ваше дело! Выговоры мне! А может, я наврал? Чи-то-ссс?! И не знаете, гнать меня или нет. Вот молодой человек мне пиджак изгадил, а я, может, все его пиджаки и брюки уничтожил одним почерком пера?! Чито-ссс?!
Вижу, что спятил – и ломается. А Колюшка стоит бледный, и губы у него трясутся.
– Ничего-с… я шучу – и все наврал. Никогда я сыщиком не был! Не был я сы-щи-ком! Чи-то-ссс? Запомните это! Хорошенько запомните!! A-а… стереглись! Гайкину напели! Он бы мне дело в компании открыл – шинами торговать… Лезет человек в мурью, а вы его так вот, так… кулаком в морду?! Нате вот, плюньте мне в морду, нате!.. Молодой человек! Плюньте!.. Вы про политику можете говорить… понимаете все… плюньте!.. Вашего парикмахера склизкого позовите… плю-уй-те!..
Реветь начал и все тянет: у-у-у… Колюшка его трясти стал за плечо.
– Что вы говорите? Неправда!.. Мы не такие!..
А тут Луша из-за двери выглядывает. Увидел он ее и поднялся.
– А вы, Лукерья Семеновна, не тревожьтесь… Я вам тридцать копеек завтра… вот с гитары… я еще не все пропил… успокойтесь…
И вдруг Черепахин и входит в одном белье.
– Простите за костюм… Да ты угомонишься? Как вошь в пироге! Наталью Яковлевну и всех будишь! Черт ты после этого!
Но я его остановил и говорю, что человек до умопомешательства дошел. А он очень горячий и всегда за нас.
– Знаю, какое у него помешательство! Ему бы теперь ассаже на двугривенный! Так ты прямо скажи, и так дам, а то важничаешь…
А Кривой посмотрел так укоризненно и загорелся:
– Все супротив меня! Ну, так знайте! Я всем присчитал: и приставу, подлецу, и дорогой супруге, и всем!.. И всем вам язык покажу! Будьте покойны! Итоги подведены. Простите меня, молодой человек! А тридцать копеек и за квартиру за двенадцать дней получите… Вот с гитары…
И подает Луше гитару. А она замахала руками и не берет.
– Я предложил… как знаете… Ну-с, прощайте, до радостного утра!
Сделал шаг вперед и стал руку протягивать, а сам глазом нас сверлит. А Черепахин ему:
– Пошел ты! Ломается, как обезьяна… Это в тебе даже и не искренне, а так, одна трагедия глупая…
– Ну, как угодно… Как угодно…
И вдруг свечу у меня и потушил.
– Занавес, – говорит, – опущен!
Такой странный оказался человек. Напустил-напустил на себя… Легли мы, а на душе муть.
Слышу, чиркнул спичкой за переборкой. Пригляделся я глазом в щель – Кривой лампочку на стенке зажег. Потом стал узелок свой вытряхивать и все головой качает. Потом поднялся, послушал и гитару на стенку повесил, а подштанники и графа Монте-Криста под кровать сунул. Остановился середь комнаты и осматривается. На углы посмотрел, на иконку в уголочке. Глаза ладонями закрыл и затряс головой. Потом за волосы себя дергать стал, да накрепко. Потом подошел к оконцу на помойку и смотрит. Прижался носом к стеклу и смотрит. И в тишине слышно, как над головой, где у нас машинист с железной дороги жил, граммофон камаринского играет. А там именины были. А Кривой все в окно глядит, в темень… Так я и заснул.
А наутро, только на службу идти, уж Колюшка в училище ушел, – неприятность. Управляющий домов барышень Пупа-евых, Емельян Иваныч Ландышев. Так и так, с первого числа надбавка вам в пять рублей!
– Почему такой, надбавка? Прошлый год набавляли…
– По плану. Обязательно велено… Я ни при чем, с меня спрашивают. У барышень расходы большие, и им не хватает. Даже обижаются на меня…
– Это ваш произвол, – говорю. – Я знаю очень хорошо барышень, они образованные и стараются для попечительства. У них вывеска даже…
А он мне и говорит:
– Это ничего не составляет, а каждый хочет себе пользы. Сами они не доходят, а с меня спрашивают… Хотите – платите, не хотите – как хотите…
Вот как! Как заколдованный круг. И накалили же меня этими прибавками и надбавками! Да-а… Я это теперь очень хорошо понимаю. Сами не доходят… Музыкальные вечера у них и ужины… И в попечительствах пекутся… барышни Пупаевы, дай им бог здоровья… Они все науки проходили в пансионах и за границу ездят, и им, конечно, не хватает. И сами лотереи устраивают и салфеточки вышивают… И как же им можно проникать в дела, когда это даже и не барышнины дела! Нежны они очень и тонки, и им, конечно, не хватает, Эх, не то говорил ты, Кирилл Саверьяныч, не то! От этого оборот! Оборот капиталов! Что тебе за прически и локоны по сто рублей с головы платят? Так и мне двугривенные платят эти барышни Пупаевы и другие… Ну, так и я им платил рублями, и они принимали, потому что это их не касается! Знаю я, какой это оборот! на собственной шкуре знаю я всех этих барышень Пупаевых и других, дай им бог здоровья! Да они и без здоровья здоровы, потому что поют и играют…
А квартир нет. Много домов настроено, а жить негде, потому что все хотят иметь доходы по плану. И так меня это расстроило…
VПостучался я к Кривому, чтобы поговорить как следует в трезвом состоянии, но он спал и дверь запер на крючок. И Луша-то сказала, пусть проспится после куража, а то злой будет. И стали мы рассуждать – гнать его или оставить. Что с него возьмешь, как он без места! И тетка-то его с ветру. И раньше, бывало, все про тетку, а потом отрекался. Такой гордый человек! И так все обернул ночью, что словно мы его обидели. А это в нем происхождение такое капризное. Хвастал, что у него мать из дворянской крови и содержанкой жила у губернатора и, может, он даже сын губернатора, а не золотарика. Черепахину все изливал: «Мне бы надо по малой мере чиновником быть и начальствовать, а я до такой ступени опустился. Но только я письмо в газеты накатаю и отца своего, подлеца, так изображу, что его с места прогонят, или пусть мне тыщу рублей пришлет, – велосипедными шинами торговать буду!»