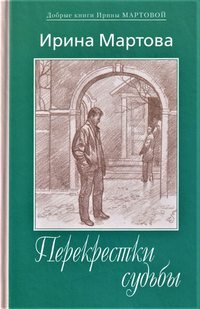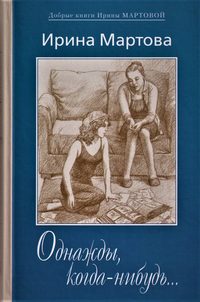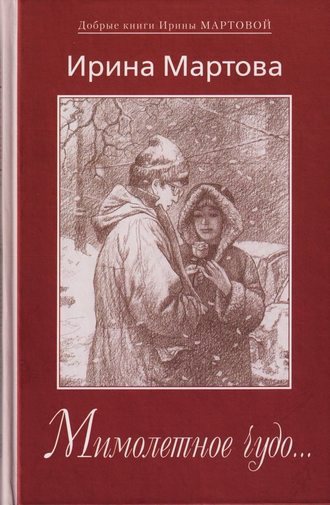
Полная версия
Мимолетное чудо…

Ирина Мартова
Мимолетное чудо…
Маме посвящается…
Иллюстрации художника А. Дудина
Оформление художника Т. Погудиной
© И. Мартова. Текст. 2015
© А. Дудин. Иллюстрации. 2015
© Т. Погудина. Оформление. 2015
© Издательство «Художественная литература». 2015
Вместо предисловия
Мой мир…
Добрый и нежный. Цветной, звездный, солнечный и дождливый.
Трогательный и трепетный.
Наполненный любовью и радостью.
Без злобы, без раздражения, без агрессии.
Любимые мною люди, родные и близкие…
И книги… Старые, зачитанные до дыр, потрепанные временем, и новые, пахнущие типографской краской, еще не познавшие популярности и забвения.
Мой мир – это я… Такая, какая есть…
Любите свой мир.
Будьте очень счастливы.
Ваша Ирина Мартова
Милосердия ради…
Лапушка
Сергей Ильич шагал медленно, осторожно переставляя одну ногу за другой, выбирая участки тротуара посуше и поровнее. Поставив ногу, он внимательно оглядывался вокруг, словно ища подвоха, потом задумчиво переводил взгляд на дорогу, убеждаясь, что она годится для продолжения путешествия, и только тогда неспешно оборачивался к нетвердо ступающей рядом даме и заботливо произносил:
– Давай, лапушка. Ну, ну… Потихонечку, не торопись, осторожненько…
Лапушка согласно кивала и точно так же, очень медленно, с большими предосторожностями делала, сильно шаркая, шажок и опять замирала, дожидаясь очередной команды Сергея Ильича.
Так они и передвигались. Крепко держась за руки, то подпирая друг друга, то заботливо поддерживая. Сергей Ильич твердо исполнял обязанности вожака, мужчины, и, вообще, хозяина дома. Он деловито приглядывал за своей дамой, любовно поддерживал ее за локоток или ладошку, терпеливо ожидал, пока она отдышится, и ласково подбадривал:
– Лапушка, не спеши. Передохни. Постой, постой…
Так, не торопясь и не суетясь, они преодолели большую половину пути.
Когда же старики, очень уставшие, добрались, наконец, до своего подъезда, и вовсе начало смеркаться.
Их квартирка, крохотная, но очень опрятная являла собой образец моды семидесятых годов прошлого века. Мебель невысокая, на ножках, светлая, уже сильно выцветшая, стояла, как и полагалось, вдоль стен. Диван-кровать и два кресла были весьма потертые, чуть продавленные и тоже очень давно потерявшие свой первозданный цвет.
Сергей Ильич, попав в родной уголок, вздохнул с облегчением и широко улыбнулся:
– Садись, лапушка моя. Садись, переведи дух.
Лапушка, в миру Серафима Михайловна, благодарно кивнула:
– Сяду, сяду… Ишь, ноги-то как трясутся.
Она засмеялась дробным старческим смешком, словно крупный горох посыпался по сухому деревянному полу:
– Ой, Сереженька, вроде и прошли немного, а усталость так и подхватывает, так и наваливается…
Сергей Ильич нежно взглянул на свою дорогую лапушку и снисходительно кивнул:
– Ничего, ничего… А ты, Симочка, приляг, десять минут полежи – и усталость как рукой снимет.
Но Серафима Михайловна, придя домой, сразу приободрилась. Ей на улице теперь отчего-то страшновато становилось: вдруг она оступится или поскользнется, или голова закружится и она упадет. Ну а дома-то, чего страшиться? Здесь она и на ощупь пройдет. Да и то сказать, ведь сколько лет они в этой квартирке живут, здесь уже и впрямь родные стены помогают!
Серафима Михайловна засуетилась. Вышла на кухню. Поставила чайник. Достала из холодильника вчерашние сырники. Ну и что ж, что холодные, зато сытные и вкусные. Одно слово – домашние!
Сергей Ильич отдыхал. Читал газету, делая это больше по привычке, чем из интереса к современному суматошному времени. Вот раньше, то ли дело… Выписывали газеты и журналы, получали вовремя, в воскресенье по утрам с удовольствием прочитывали свежую прессу за чашечкой чая. А теперь… Эх, все теперь не так! Он горестно вздохнул. Все по-другому. Или, может быть, дело совсем не во времени, а в том, что это они так постарели? Старик задумался. Да нет! Ерунда. Сергей Ильич раздраженно хмыкнул, но, вспомнив про Симочку, ушедшую на кухню, отложил в сторону газету и громко спросил чуть задрожавшим от напряжения голосом:
– Лапушка? Ты что там притихла?
Серафима Михайловна, одернув старый застиранный фартук, заулыбалась, собрав в уголочках глаз множество лучистых морщинок:
– Сейчас, миленький, сейчас соберу тебе перекусить.
День давно уже отправился отдыхать, уступив место легкой ночной прохладе и легкомысленному беспечному ветерку, который, скоренько пробежав по вершинам деревьев, тоже притих, должно быть, уснув в ожидании нового дня.
Старики, однако, еще не спали.
Вроде бы и дел особых по хозяйству не было, а все же старались не отставать от молодых. Крепились, бодрились, суетились… Вот Серафима Михайловна взялась и бельишко погладить. Сергей Ильич, заметив это, поначалу нахмурился:
– Ой, лапушка, ну, к чему это? Брось, брось… Завтра будет день, потихонечку-полегонечку и погладишь! Ну, куда, скажи на милость, нам с тобой спешить?
Он влюбленно взглянул на жену.
Ее седые реденькие волосы блестели словно только что выпавший снег, глубокие морщинки безжалостно бороздили лицо, покатые плечики ссутулились, но ему, прожившему с ней пятьдесят лет, она казалась совершенной красавицей.
Ох, лапушка!
Он прикрыл глаза…
Ну и заметной же девчонкой Симка была в молодости! Ох и хороша ж девчонка выросла! Незаметно как-то… На горе всем местным парням. Даже взрослые мужики, глядя на нее, только головами качали: «Ох, Симка! Огонь, а не девка!»
Глазищи прямо на пол-лица, так и пылали каким-то синим огнем, прожигая душу до самого донышка. Как бывало взглянет на парня какого-нибудь – все, пиши пропало! Сердце у того заколотится, затрепещет, впору хоть ложись и помирай! А ей, Серафиме – хоть бы что! Хохочет, руки в боки, брови как нарисованные… Эх, чудо чудное!
Жили они тогда в селе. Большом, богатом, дома в округе зажиточные, мужики да бабы работящие. Но как работать любили и умели, так и веселились от души. По вечерам за околицей отчаянно, звонко, заливисто пела гармошка, до утра звенели частушки. А какие свадьбы по осени в их селе играли! Вся округа завидовала: «Вот ведь живут! И лихо их не берет!»
Сергей вернулся из армии к ноябрьским праздникам.
Уже похолодало. По утрам морозец так прихватывал настывшую землю, что хоть гвозди забивай, но снега пока Бог не давал. Старики даже поговаривали, что зима в нынешний год будет поздняя.
Повидавшись с родней, сразу набежавшей в их дом, напарившись с братом в жарко натопленной баньке, Серега еле дождался вечера. Во-первых, многочисленная родня совсем одолела своими расспросами да объятиями, а во-вторых, уж больно ему хотелось поглядеть на подросших за время его службы сельских девчонок.
Вышли они с братом за ворота, расправили плечи, голову подняли, и пошли по селу красавцы, осеняемые вслед материнским крестом да жаркой молитвой. Ох и помнится ему тот вечер! А как же… Еще бы! Не успела заиграть гармошка, как выплыла в круг Серафима – красота неописуемая, и пошла, и пошла кренделя ногами выписывать, то плечом поведет, то платком взмахнет… И все! И пропал Серега сразу раз и навсегда…
Сергей Ильич вздохнул, вернувшись из далеких воспоминаний.
Серафима Михайловна, сильно ссутулившаяся, напрягая чуть дрожащие руки, уже доглаживала белье. Глаза ее давно уже плохо видели, да и очки не очень спасали, поэтому она сильно щурилась.
Сергей Ильич, переживая за ее самочувствие, решительно замахал руками:
– Лапушка, все. Ну все… Хватит. Отдохни.
Она послушно выключила утюг, потерла ноющую спину, прихрамывая подошла к мужу. Присела напротив него, подложила дрожащую ладошку под голову и задумалась.
Он ласково улыбнулся:
– Что ты, лапушка? О чем ты?
Она долго-долго глядела на его опухшие, изуродованные болезнью пальцы, совсем лысую голову, худую морщинистую шейку и тихонько вздохнула:
– Ох, миленький… Вот думаю, приберет меня Господь, как же ты жить без моего присмотра станешь? Кто о тебе позаботится?
Сергей Ильич задумался, покачивая лысой головой. Внимательно посмотрел на старушку, как-то печально ухмыльнулся и ласково ответил:
– Ну что ты, лапушка. Не печалься. Не бери в голову. Разве ж я жить без тебя захочу? Так, разве только денечек-другой… А потом лягу и усну. Навсегда. Разве я могу лапушка, тебя отпустить?
Они дружно засмеялись. Потом прослезились…
В их смехе не было радости. А в слезах не было печали. Это было счастье.
Простое, незамысловатое, великое…
Одинокий месяц завистливо заглянул в окно. Удивленно прислушался. Надо же…
Безмолвно звучал в ночи гимн любви, которая не умирает…
Динка
Полуденное солнце лениво стекало по блеклому, выгоревшему небу к горизонту Уставшее и разморенное, оно двигалось медленно и вяло, свысока поглядывая на разомлевших от жары обитателей крохотной деревеньки, затерявшейся в русской глубинке.
Динка сидела на старой лавочке, аппетитно грызла семечки и с удовольствием болтала ногами, обутыми в новенькие блестящие сандалии. Вперед – назад… Вперед – назад. Девчонке отчего-то очень нравилось это свободное легкое движение ногами, словно бы и сама она взмывала ввысь и возвращалась обратно, окунувшись с головой в раскаленный поток воздуха. Вперед – назад… Динка веселилась от души, да и поводов, честно говоря, оказалось немало. Во-первых, неделю назад закончилась эта противная школа и наступили, наконец, так долго ожидаемые летние каникулы. Во-вторых, мама сдержала данное очень давно слово и привезла ее на целое лето (ура!) в деревню к бабушке. В общем, Динка, помахав рукой на прощание маме, уже сидящей в машине, от привалившего вдруг счастья чуть не пустилась в пляс.
Деревня поначалу поразила Динкино воображение.
Боязливо оглядываясь вокруг, она в первое время даже по бабушкиному двору передвигалась перебежками, как вражеский лазутчик. Да и как не бояться: то гусь как зашипит и, пригнув голову к земле, оглушительно захлопочет крыльями, то шмель мохнатый откуда ни возьмись загудит прямо над ухом, то крапива, поначалу не замеченная, так обожжет ногу, что хочется выть на всю округу Не жизнь, а сплошная борьба за выживание!
Но эти житейские мелочи, на первых порах казавшиеся совершенно непреодолимыми, как-то быстренько стали привычными и обыденными. Динка, проведя в деревне всего два дня, сразу перестала бояться толстую, неповоротливую гусыню и, разгоняясь, уже сама набегала на нее, страшно крича и топая ногами. Бедная птица, не в силах пережить такого ужаса, пряталась за сарай и лишь изредка, когда Динки не оказывалось рядом, осторожно выходила из укрытия.
Освоив все в пределах двора, девочка решила двигаться дальше. А почему бы и нет? Бескрайний и увлекательный мир за невысоким забором так и манил, так и звал, обещая столько еще непознанного и невиданного, что Динка, переселив свою городскую робость и девчачий страх, решительно распахнула деревянную калитку и шагнула на деревенскую улицу.
Курносая, светловолосая и голубоглазая, Динка ничем, в общем-то, и не отличалась от деревенских девчонок. Разве что у тех загар был потемнее, да волосы совершенно выгорели от постоянного пребывания на улице. Но самой себе Динка казалась чуть ли не принцессой, ей безумно нравилось ее новое платье, которое мама купила перед самым отъездом. Ярко-желтое, в крупный горошек, с большим бантом на спине – чудо, а не платье! А эти кармашки по бокам, а складочки, а рюшечки?! Просто прелесть, а не платье! Динка восторженно вздохнула, полюбовавшись на свое необыкновенное платье, а потом подняла глаза и оглянулась вокруг… Ей хотелось восхищенных зрителей, которые бы подтвердили ее неповторимость и поддержали уверенность в полном превосходстве над деревенскими девчонками. Но отчего-то сегодня неширокая деревенская улица была пуста. «Наверное, прячутся от жары, – решила девочка, – вот смешные, ну и пусть…»
Она с удовольствием закинула в рот очередную семечку и махнула ногой. Вперед – назад… Вперед – назад. «Нет, все-таки деревня – это замечательное место!» – решила девочка и мечтательно зажмурила глаза, подняв лицо к ослепительному солнцу.
Когда же Динка, наклонившись вперед, распахнула глаза, то от неожиданности даже ойкнула. Перед ней молча, сдвинув густые белесые брови, стоял мальчишка, сурово глядевший на разомлевшую от полуденного зноя явно не здешнюю девчонку.
Он внимательно оглядел эту непонятно откуда взявшуюся разнаряженную незнакомку, а потом отчего-то сердито спросил:
– Ты откуда взялась?
Динке это сразу не понравилось. Подумаешь, командир! Она подняла голову повыше и дерзко сказала, как отрезала:
– Оттуда!
Мальчишка просто остолбенел от такой наглости:
– Откуда – оттуда?
Динке стало смешно, она прыснула в кулачок и уже более благосклонно ответила:
– Из города. Что, не видишь?
– А-а-а, – протянул мальчишка, качая головой, – понятно.
Что ему было понятно, Динка не знала, но на всякий случай гордо взмахнула ресницами и отвернулась в сторону.
Мальчишка постоял, потоптался на месте, очевидно собираясь с мыслями, потом кивнул Динке:
– Слушай… А ты чья?
Динка, обернувшись, недовольно вздохнула (вот бестолковый!) и, укоризненно глядя на мальчишку, процедила сквозь зубы:
– Мамина и папина.
Парнишка сдвинул белесые брови:
– Да это я и так знаю. А сюда, к кому приехала? Динка сменила гнев на милость:
– К бабушке. Бабу Зину знаешь?
В глазах мальчишки вспыхнула радость:
– Бабу Зину? Вот тебе раз… так это ж наша соседка. Я живу вон там, – он махнул рукой за спину, – прямо через дорогу крашеный дом видишь?
Динка подняла глаза и поспешно кивнула:
– Вижу. Вот же он. Через дорогу.
– Правильно, – отчего-то еще больше обрадовался парнишка, – это наш дом.
Он внимательно пригляделся к Динке:
– А ты чего такая расфуфыренная, как кукла? Девочка покраснела и растерянно огляделась:
– А что? Разве не красиво?
Парнишка проявил небывалую тактичность:
– Да что ты! Красиво! Очень красиво. Это я так… Потом он, спохватившись, поднял на нее пытливые глаза:
– А как тебя зовут?
Девочка, которая очень гордилась своим именем, царственно улыбнулась:
– Дина.
Было видно, как парнишка изумился. Глаза быстро забегали, он робко зашевелил губами, словно пытался беззвучно повторить небывалое для деревни имя:
– Как? Дина?
– Да, – снисходительно кивнула девочка, – красиво, правда?
Мальчишка, сообразив, что деваться некуда, отвел глаза в сторону:
– Очень.
Он помолчал, борясь со своими эмоциями и собираясь с духом, а затем негромко сказал:
– А я Васька. Василий. Слыхала такое имя?
– Ага, – Динка хохотнула, – у нас так кота звали.
В общем, знакомство состоялось.
С того дня время покатилось со страшной силой.
С утра Васька прибегал за Динкой, и они, позавтракав, носились как оглашенные по всей округе. Красивое ярко-желтое платье пострадало первым. Перелезая через соседский забор, Динка зацепилась за доски подолом с рю-шечками и с треском разорвала его пополам. Но, честно говоря, горевать особенно было некогда, так как Васька ждал внизу, нетерпеливо подпрыгивая:
– Ну, ты где? Чего ты там застряла? Ну давай…
Три месяца пролетели незаметно. Динка как-то похудела, вытянулась, почернела под неутомимым солнцем и выглядела уже даже не на свои двенадцать лет, а значительно старше. Баба Зина, поглядывая на внучку, одобрительно качала головой:
– Молодец! Поздоровела на деревенском воздухе да натуральных харчах!
И правда, жизнь в деревне оказалась увлекательной и любопытной. Вот только стычки с местными девчонками происходили постоянно. Никак не хотели местные красавицы принимать Динку, без конца придирались и цепляли ее. Однажды, когда все они сидели на берегу реки, одна из деревенских громко спросила:
– Ой, что-то я позабыла, как зовут-то тебя?
Не подозревавшая подвоха Динка громко и отчетливо, как учила мама, произнесла:
– Дина.
Девчонки прыснули:
– Дина – корзина… Динка – пружинка… Дина – картина.
А та, которая спросила, так и вообще выделилась:
– Дина – скотина.
Растерявшаяся Динка еще ничего не успела и ответить, как Васька вскочил с коряги, на которой сидел, и схватил обидчицу за плечи:
– Эй, ты чего?! Еще раз услышу, получишь! Поняла?
Та, испугавшись налетевшего мальчишки, безропотно кивнула:
– Поняла, поняла. Подумаешь! Принцесса на горошине!
Динка благодарно взглянула на парнишку. Васька покраснел и опустил голову. Вообще, он оказался удивительно заботливым, добрым и смешным мальчуганом.
Он, как выяснилось, так же как и Динка, собирал марки. Узнав об этом, она разложила на полу все свои марочки, которые так любовно собирала долгие годы, и стала рассказывать Ваське все, что читала или слышала о них. Он слушал, затаив дыхание, даже грозная баба Зина присела тихонечко на диван и, боясь пошевелиться, внимала рассказу внучки. Особенно Ваське понравилась одна большая марка, довольно редкая, очень яркая и немного помятая. Он сразу предложил Динке:
– Давай меняться?
Но Динка ни за что не хотела расставаться с этой своей красавицей, поэтому пообещала:
– Я в городе еще одну такую поищу и следующим летом тебе привезу в подарок.
На том и порешили.
Конец августа подступил, как, впрочем, и всегда, неожиданно.
Мама, приехавшая за Динкой, все никак не могла наглядеться:
– Диночка! Ты ли это? Так выросла! А загорела-то как! Тебя и не узнать…
Собрав сумки и чемодан, Динка вышла прощаться с Васькой.
Он ждал ее у ворот. Радостно улыбаясь, девочка быстро подбежала к нему и остановилась, увидев его грустные глаза. Они помолчали. Оглянувшись на дом, зная, что мама уже ждет ее, Динка тихонько тронула Ваську за руку:
– Ну, Васька, мне пора…
– Ага.
Он кивнул и опустил вниз голову. Он хотел стойко, по-мужски проводить своего нового друга Динку, но не очень получалось. Отчего-то противные слезы щекотали глаза и горло ужасно першило. Собрав в кулак всю свою волю, Васька посмотрел на девочку:
– Ну, счастливо тебе.
Его губы скривились то ли в улыбке, то ли в сдерживаемом всхлипе. Помолчав еще секунду, он вдруг спросил внезапно задрожавшим голосом:
– Динка, а ты точно приедешь на следующее лето?
Динка хотела засмеяться, но вместо этого отчего-то молча кивнула и как-то хрипло выдавила:
– Приеду.
Не сдержавшись, она все-таки заплакала. Сама не понимая отчего, она горестно всхлипывала и терла ладошкой глаза. А потом, словно вспомнив что-то, негромко спросила:
– Васька, а хочешь, я тебе марку отдам? Сейчас? Хочешь?
Васька отчаянно замотал головой, не глядя ей в глаза:
– Нет. Не хочу. Лучше потом привезешь.
И тут же с надеждой выдохнул:
– Привезешь?
И она, понимая, что не марка ему нужна, а она сама, благодарно шмыгнула носом:
– Привезу.
И он, и она, сами не понимая почему, чувствовали, что нынешнее лето навсегда останется в их памяти.
Она уезжала.
Встав на заднее сиденье коленями, Динка заплакала, не стесняясь мамы, и долго махала и махала рукой. Васька, поначалу побежавший за машиной, потом отстал, и его худенькая фигурка, удаляясь, становилась все меньше и меньше, пока совсем не скрылась за горизонтом.
Ну что ж… Детство уходило.
Динка становилась взрослой.
Все будет хорошо…
Наконец в избе все угомонились.
Уснули взрослые дети, устало разметавшись на высоких пуховых подушках, сладко засопел в своей колыбельке полуторагодовалый карапуз Митька, за печкой, на широкой лавке, наконец угомонился старик-отец.
Стало тихо-тихо.
И в этой легкой, теплой, ночной тишине деревенской избы лишь слышалось, как потрескивают дрова в древней, еще прадедом сложенной изразцовой печи, как в теплых сенях вздыхает недавно народившийся теленок, как повизгивает во сне крохотный щенок, принесенный дочерью от соседей, да как редко, но звонко капает вода из медного рукомойника, купленного покойным мужем по случаю в автолавке, раз в полгода заезжающей в их далекую деревню, расположенную в стороне от широких и удобных дорог.
Любаша вздохнула.
Она любила эти ночные часы, когда вся их большая семья, притомившаяся за день, засыпала. Тогда наступали те редкие мгновения, когда домашние дела переделаны, животные накормлены, печь жарко натоплена… Всего и не перечислишь, что женские проворные руки за день делают, да и зачем…
Главное, вот оно – эта тишина!
Любаша прошла по чистому деревянному полу, выскобленному третьего дня добела, присела у окошка на лавку и посмотрела в окно.
Ой и вьюжно!
Так и метет, так и метет… Уж, поди-ка, неделю завывает да постанывает за окном хозяйка-метель. Так и злится, так и заносит, ох и сердита нынче зима!
Любаша покачала головой, глянув во двор.
Ить вот только вчера они с Федькой, старшим сыном, чистили перед сараюшками и погребом. Да куда там! Ни тропинок, ни дорожек… Все сравняла, замела, запорошила налетевшая метелица. И откуда в ней силы-то столько? Любаша усмехнулась. Говорят, что у человека больше… Ан нет! С природой шутки плохи…
Огромная, мутная луна висела прямо над огородом.
Словно подсматривая за людьми, она сегодня щедро одаривала их своим тускловато-безжизненным светом. И от этого и огород, и двор, и крыша погреба казались не белоснежными, а желтовато-грязными.
«Ох, – вдруг подумалось Любаше, – и страшно ж теперь в лесу… Попадешь, так и не выйдешь… Верная смерть!»
Неугомонные мысли беспокойно метались в уставшей от дневных забот голове. Их ход объяснить было нельзя, да и не нужно…
Вдруг вспомнился погибший прошлым летом муж. Митюшке, самому младшему, тогда едва-едва год исполнился. Любаша всхлипнула, горькие слезы полились ручьем и на подбородок, и на шею, и на руки… Ах, беда-беда!
Женщина приподняла фартук, повязанный с самого утра, взялась за кончик и вытерла лицо. Но отчего-то так проняло ее сегодня, так душу разбередило, что она никак не могла успокоиться. Всхлипывала, сморкалась, хлюпая носом, что-то шептала, покачивая головой… Рыдания так и рвались из груди: и мужа, так рано погибшего, не хватало, и себя, горемычную, жалко, а детей четверых, сиротинок, еще жальче…
Расстроившись, Любаша закрыла лицо фартуком, уже повлажневшим от ее слез, и зарыдала по-бабьи, чуть подвывая да постанывая.
В горнице послышались шаги. Шлепая босыми ногами по выскобленным половицам, в кухню вошел старший сын. Заспанный, взлохмаченный, он щурился спросонья, пытаясь понять, что случилось. Любаша, никак не хотевшая его расстраивать, поспешно обтерла лицо и удивленно вскинулась:
– Ты чего, милок?
Но парень, ничего не ответив, пристально поглядел в заплаканное, покрасневшее и распухшее лицо матери, прошлепал по кухне и присел рядом с ней на лавку:
– Мам, что плачешь?
Любаша, ничего не ответив, опустила голову.
– Папку вспомнила? – сын сдвинул белесые брови. – Или болит чего?
Нежность захлестнула изболевшееся сердце матери. Она обняла своего старшего за плечи. Вот она – опора и надежда!
– Не бойся… Это я так, Федюшка. Все у нас в порядке.
Сын внимательно глянул на нее:
– Ты не горюй, мам… Я вас не брошу. Ты только скажи, я все сделаю. Ты только не плачь…
Горячие слезы опять навернулись на глаза. Любаша хлюпнула носом:
– Деточка ты моя, кровинушка… И чтоб я без тебя делала!
Она уткнулась в худенькое, совсем мальчишеское плечо своего шестнадцатилетнего сына и покачала головой:
– Ой и лихо нам, сыночек… Но не бойсь, сдюжим мы, выстоим. Нас вон сколько! Мы с тобой, да Степка с Маринкой, да Митюшка еще подрастет… Не сдадимся, не пошатнемся!
Федька хмуро молчал. Жаль ему было мамку, так жаль!
Отец, кинувшийся летом спасать тонущего пьяного мужика, и дурака этого не вытянул, и сам не выплыл. Ох и кричала мать там на берегу! Еле соседки отлили водой. Да и он, Федька, не сдержался, сцепил зубы, сжал кулаки до боли, а не сдержался. Слезы текли как из небесной прорехи. А он и не стыдился. Разве горя можно стесняться?
Только мамку жалко.
Да и за этих, что сопят в горнице, тоже душа болит.
А как не болеть: Степке-то только десять, а Маринке и того меньше – восемь, а уж Митюне – так и совсем полтора года.
Федор вздохнул и скосил глаза на притихшую мать.
Та, уже вроде оправившись, подбирала волосы под косынку.
Сын улыбнулся: «Ох и хороша у нас мамка-то! Ишь, красавица…»
Любаша встала, налила в кружку свежей колодезной воды, глотнула, вытерла ладошкой рот и, поджав губы, опять присела на лавку. Помолчала, а потом вдруг обернулась к сыну и прошептала: