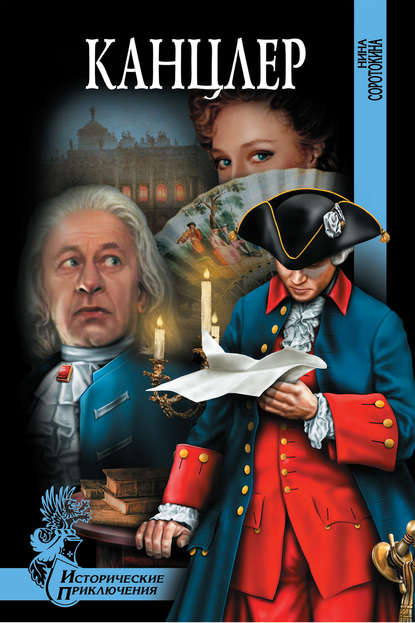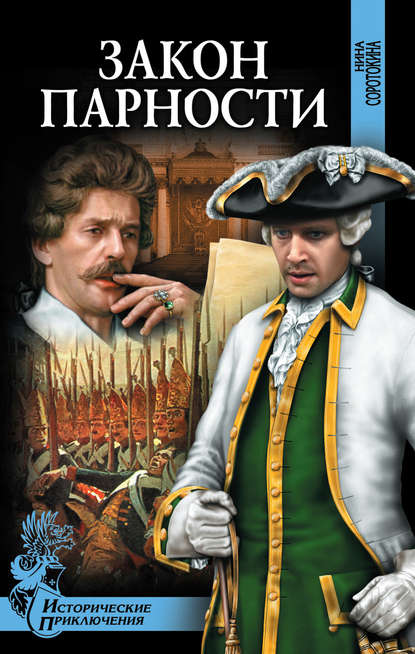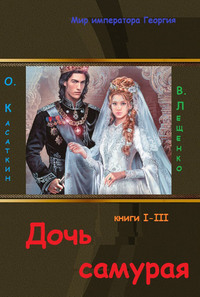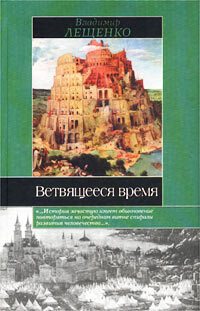Полная версия
Русский с «Титаника»
Лайтоллер вытащил из кармана длинный и замысловатый «капитанский» ключ – от всех дверей на корабле, и они оказались в холле просторной каюты, заметно отличавшейся от той, в которой обитал Ростовцев. Несколько дверей в соседние помещения, большой камин, альков с двуспальной (хм) кроватью. Зеленая обивка стен с золотом, большое зеркало, в котором отражался желтоватый свет ламп.
Но посетителям было не до роскоши апартаментов.
Посреди каюты неподвижно лежало тело мужчины, из спины которого под углом торчала чуть изогнутая рукоять клинка с резной бронзовой гардой.
Помощник капитана и стюард старались отвести глаза от трупа, всем видом показывая, что их дело было доставить Ростовцева сюда и отныне ему предоставлена полная свобода действий.
Нольде лежал, вытянувшись во весь свой немаленький рост, и сейчас особенно было видно, насколько он худ и костляв. Сильно видать побила жизнь прежнего бравого офицера, любимца дам всех возрастов. На нем была дорогая чесучовая пижама темно-серого цвета. Юрий обратил внимание на шелковые серые носки и тонко вышитые ночные туфли.
Смерть настигла барона, когда тот собирался отойти ко сну… Собственно, он и отошел. Правда, сон оказался вечным…
Ну что ж, начнем, благословясь.
Для начала он открыл ведущие в каюту двери.
Миниатюрная гардеробная с двумя складными койками на стене (для прислуги), буфетная, туалет и ванная – отдельно.
Затем приблизился к мертвецу.
Тот лежал, уткнувшись лицом в ковер. Сквозь серые жидкие волосы просвечивала бледная лысина, свалившееся пенсне лежало на полу…
Пальцы правой руки, вытянутой вперед, были скрючены, отчего рука напоминала лапу хищной птицы; согнутые пальцы словно бы пытались вцепиться в нечто, но рука была пуста.
Юрий опустился на колени и взял еще не остывшую кисть Нольде, не без злорадства отметив, как вздрогнул Лайтоллер. А вот стюарду хоть бы что – вышколен на зависть.
На указательном пальце правой руки сиротливо посверкивал черный ободок кольца вороненой стали. Необычное кольцо, редкое. Даже не снимая его, Ростовцев знал, что внутри на золотой подкладочке вычеканен девиз Мальтийского ордена: «Мой Бог, мой король, моя дама!» Такие кольца носили выпускники Пажеского корпуса. Нольде, как он припомнил, начал подпоручиком по Адмиралтейству и лишь потом его произвели в мичманы именным указом – за арктические путешествия. Потом там была еще какая-то история, смутная и грязноватая, и в конечном итоге вместо Гвардейского экипажа барон оказался в отставке. Но что бы там ни было, вряд ли его убили из-за старых морских или военных дел. Хотя все может быть…
А вот орудие убийства – это уже любопытнее.
Юрий не был большим знатоком холодного оружия, но японский короткий «вакидзаси», парный кинжал к самурайской «катане», узнать мог – как-то попалась в руки книга о японской армии.
Он внимательно осмотрел рукоятку клинка. Шероховатая потертая кожа, кажется, акулья. Отпечатки пальцев не сохранились, хотя убийца, скорее всего, протер ее. Подобрав пенсне, Ростовцев посмотрел сквозь двояковыпуклое стекло на рукоять. Так и есть, ничего похожего на следы пальцев.
А вот то, как наносился удар, это еще интереснее.
Привстав, Юрий сделал замах правой, а затем левой рукой, в которых был зажат воображаемый клинок. Озадаченно наморщил лоб – выходило, что убийца бил левой рукой, сзади и наискось, причем сверху вниз, словно был великаном семи футов.
Стало быть, жертва повернулась к противнику спиной или боком. Из чего следует…
Да, собственно, ничего не следует!
Например, некто мог свободно войти в каюту хоть к Нольде, хоть даже к Ростовцеву и предложить, ну, пусть, партию в бридж. Кто заподозрит соседа по первому классу на роскошном лайнере?
– Вы что-нибудь обнаружили? – нарушил молчание Лайтоллер.
– Да, господин Нольде был убит японским кинжалом, – не моргнув глазом, ответил Ростовцев.
– Вот как? – нахмурился мистер Чарльз. – Нужно немедленно проверить списки пассажиров, не затесался ли в третий класс какой-нибудь япошка! А черт – во втором классе вроде как раз японец есть…
– В этом нет нужды, – молвил Юрий, поднимаясь с колен. – Барон фон Нольде участвовал в войне с японцами и даже был в плену. Этот кинжал вполне может быть сувениром в память о пребывании в стране микадо.
– Значит, убит собственным ножом? – пожал Лайтоллер плечами. – Бывает! Помню в Глазго… Впрочем, неважно! – пробормотал он полушепотом.
Стряпчий, тем временем поднявшись и смахнув с фланели брюк несуществующие пылинки, повернулся к маячившему у дверей стюарду.
– Мистер…
– Макартур, сэр! – откликнулся тот.
– Да, разумеется! Будьте добры, это ведь вы нашли труп?
– Не совсем так, сэр! Дело в том, что господин Нольде еще утром попросил обязательно его разбудить в определенное время. Он очень настаивал и даже дал заранее полкроны на чай. Когда пришел условленный час, я позвонил в каюту, но никто не отозвался. Я предположил, что с господином Нольде могла случиться какая-то неприятность, и обратился к мистеру Лайтоллеру, после чего мы открыли каюту и сразу доложили капитану о… случившемся.
– Кстати, вы ничего здесь не трогали? – осведомился Юрий у стюарда. – В смысле – тело?
– Никак нет, сэр, – коротко отрапортовал англичанин. – Я знаю правила на такой случай. Кроме того, я видел, что мистеру Нольде уже ничем не поможешь.
– А вы уверены, мистер… – пришла в голову стряпчего некая мысль.
– Макартур, сэр!
– Мистер Макартур, вы уверены, что он был мертв, когда вы вошли?
– Да, сэр! Я достаточно хорошо разбираюсь в покойниках…
И отвечая на незаданный вопрос, стюард уточнил:
– Бурская кампания, 2-й Королевский ланкастерский полк, сэр. Прошел от начала и до конца!
Ростовцев кивнул. Пожалуй, человек с таким послужным списком и в самом деле разбирался в покойниках.
– Как вы думаете, давно ли его прикончили? – вмешался Лайтоллер, обращаясь не то к Макартуру, не то к Ростовцеву.
– Труп еще не окоченел, стало быть, три или четыре часа тому назад. Хотя…
У мертвеца из кармана пижамы свисала часовая цепочка.
Вытянув золотой брегет на свет электрических ламп, Юрий увидел, что стекло циферблата треснуло от удара об пол. Стрелки остановились на 05.33.
– Вот как? А сейчас у нас сколько?
– Три часа сорок одна минута, – сообщил Лайтоллер, сверившись со своим морским хронометром…
– Старый, как мир, и тем не менее действенный прием, – прокомментировал Юрий.
Кто-то явно хотел запутать следствие.
Стоп, подумал он. А зачем вообще эта возня с часами?
Ростовцев подошел к иллюминатору, отдернул занавеску. Несколько секунд изучал толстое закаленное стекло в никелированной раме. Тронул фигурные оголовки болтов. Завернуты намертво! Странно, однако! Их даже не пытались отвинтить, а, казалось бы, выкинь труп в море – и воистину концы в воду! Или убийцу кто-то или что-то спугнуло? Впрочем, если убийство не было заранее обдуманным, преступник мог просто растеряться. Вспомнил уголовную хронику или полицейский роман, наскоро обтер рукоять, кокнул часы и сбежал.
Раздумчиво подойдя к столику, он некоторое время созерцал расставленные на нем предметы.
Фотография фон Нольде в рамке – видимо, уже давняя. На ней лощеный морской офицер выглядел косматым, заросшим, как медведь, бородачом-викингом. В грубом свитере и распахнутой штормовке он стоял у мачты какого-то судна. На заднем плане – низкий берег и черные заснеженные скалы.
Должно быть, снимок тех времен, когда старший лейтенант флота бороздил полярные моря. Юрий повертел снимок в руках и вернул на место, еще раз поразившись, как сильно изменился прежний здоровяк-моряк.
Открытый несессер, неприятно напомнивший Юрию его собственный, может, даже купленный в том же парижском магазине. «Вечное перо» Паркера.
Портмоне – проверив его, Ростовцев обнаружил в нем нетолстую пачку однодолларовых купюр, несколько десятишиллинговых британских банкнот, а в секретном отделении – аккредитив на Нью-Йоркское отделение Русско-азиатского банка и пару «петров»[4]. Значит, это не ограбление, если, конечно, барон не вез что-то более ценное.
Хотя грабители и воры вряд ли прошли бы мимо валяющего кошелька…
Он поглядел в сторону молча созерцавших его работу Лайтоллера и Макартура.
В России его бы давно замучили советами и вылили на голову ворох версий: кто убил, зачем убил и что все это значит. Юрий вспомнил непристойный анекдот про разницу между парижскими и питерским любителями свального греха.
А тут воистину настоящий английский характер – человек делает свое дело и нечего лезть с советами, куда не просят.
О, а вот это уже интереснее. На столике у фото лежала пара ключей со знакомой латунной биркой. Странно… Если, конечно, стюард не врет, то чем же тогда убийца запер дверь?
– А дверь точно была закрыта? – переспросил он зачем-то.
– Да, сэр! – Макартур сейчас был живим воплощением главного принципа британской прислуги: «джентльмен в услужении у джентльменов».
– А у кого еще есть ключи от пассажирских кают? – справился Юрий.
– Второй комплект ключей имеется у пассажирского помощника, мистера Лоу, но он только полчаса назад сменился с ходовой вахты, а до того все время был на мостике, – по-военному четко отрапортовал Лайтоллер. – Имеется еще мастер-ключ у капитана и старшего офицера. Еще иногда пассажиры доверяют ключи прислуге или стюардам, – при этом мистер Чарльз, как на миг почудилось Юрию, как-то нехорошо покосился на Макартура.
Сыщик поднял ключи и рассмотрел внимательнее. Замки тут, однако, довольно простые, сам Ростовцев смог бы за десять минут соорудить подручными средствами подходящую отмычку.
Впрочем, это как раз не показатель – наставником его в «науке» работы с ключами и замками был ни кто-нибудь, знаменитый питерский «маз» – домушник Иван Рыло, отчаянно маявшийся вынужденным бездельем в сибирской глухомани и от тоски взявшийся обучать барича-«политицкого» любимому делу.
– Мистер Макартур, – попросил он. – Все же попытайтесь вспомнить, было ли что-то еще в каюте в ваш утренний визит, чего сейчас нет?
Макартур сосредоточенно свел брови, обводя глазами роскошный интерьер.
– Кажется, был еще небольшой бювар темно-красной кожи. Да, он лежал на столе там же, где стоит фотография, – сообщил он минуту спустя. – Хотя простите, но с точностью утверждать не могу.
Взгляд Юрия уперся в сиротливо лежащую паркеровскую ручку, поблескивающую золотым пером. Накануне смерти Нольде, вероятно, собирался что-то писать.
Короткий осмотр чемоданов ничего не дал. Костюмы, хорошо пошитые и в меру дорогие, старинное лютеранское распятье из источенного червями дуба – не иначе семейная реликвия; белье, включая полосатый купальный костюм, две картонки со шляпами – в одной было три котелка, вдвинутых один в другой, как суповые тарелки.
Башмаки и летние туфли – все добротное и дорогое. Бамбуковая трость, в которой обнаружился острый двадцатидюймовый клинок. Лакированная японская коробочка, пустая, наверное, тоже память о плене.
А это что? Небольшая шкатулка – резная из слоновой – а нет – таки из мамонтовой кости. Тоже память о северных странствиях? Хотя вряд ли – рельефы на ней явно восточные – японские или еще какие в этом же роде.
На ней висел крошечный никелированный замочек, но отпертый. И ключик рядом – на связке… Осторожно открыл шкатулку.
В ней уютно устроились небольшие изящные вещицы – длинная, длиннее обычной, курительная трубка с крошечной нефритовой чашечкой на черепаховом мундштуке, обильно украшенная резьбой и инкрустацией позолоченная маленькая лампа на фарфоровой подставке и фарфоровая же пиала, – из которой сподручнее пить новорожденному котенку. Рядом – длинная бронзовая игла с бронзовым шариком на конце и потемневшим острием.
Трубку, что ли, прочищать?
Лайтоллер, заглянув через плечо, вдруг ухмыльнулся.
– Та-ак – протянул он, – а ваш кэптэн был еще и opium master?[5]
Видал я такое в портовых вертепах – и в Азии, и в Америке и в старушке – Англии.
Юрий неопределенно пожал плечами. Курение китайского зелья на Руси не особо привилось – наш человек все больше на горькую налегает. Но, видать, в своих плаваниях Отто Оттович подхватил и этот порок… Кто б мог подумать – блестящий офицер, дворянин и умница – и словно какой-то грязный рикша дурманит себе разум?!
Что ж, сдается, осмотр каюты больше ничего не даст.
Пресловутый Шерлок Холмс или давний и не очень добрый знакомец, петербургский полицмейстер Аркадий Кошко, может, еще чего и нашли бы, но приходится довольствоваться тем, что имеешь.
Например, тем, что нигде ни следа бумаг.
Версия напрашивалась одна-единственная: Нольде убили из-за пресловутого северного «прожекта».
И Ростовцев всерьез пожалел, что ввязался в это дело. Ибо с некоторых пор предпочитал держаться подальше от всего, что хоть немного пахло политикой. А тут, похоже, ею не пахло, а просто-таки смердело.
Но что толку сожалеть? Ходу назад уже нет по многим причинам…
Кстати, вот еще вопрос…
– А что вы, простите, думаете делать с… э-э-э телом? – осведомился он у Лайтоллера.
Судя по сконфуженному лицу помощника, он угодил в самое больное место.
– Сэр, мы пока не пришли к однозначному решению. Но, я полагаю, самым целесообразным было бы нам всем вместе, я имею в виду посвященных в этот щекотливый вопрос, выбрав время, отнести покойного мистера Нольде в судовой холодильник, где он благополучно пролежит до Нью-Йорка… Ну, или до возвращения в Лондон. Холодильников у нас восемь больших, не считая обычных, в ресторанах и на камбузе, – почему-то сообщил он. – Кроме того…
Лайтоллер замер, невольно устремив взгляд в иллюминатор.
Юрий уже догадался, о чем в этот момент думает офицер. И он, и капитан Смит, а уж сэр Исмей особенно, наверняка были бы не прочь, если бы злосчастный мертвец куда-нибудь исчез. А куда лучше всего спрятать труп на корабле? Странный вопрос. Разумеется, в море.
Такой ход событий Ростовцеву не очень понравился. И не потому, что Нольде был его знакомым или соотечественником. Кроме всего прочего кое-кому могло показаться, что и слишком много знающему сыщику тоже невредно отправиться за борт.
Однако же и предложение Лайтоллера вызвало у него кривую усмешку. Он представил, как их «команда», состоящая из капитана, престарелого кассира, самого Лайтоллера, стюарда, ну и его, пассажира первого касса, потащит мертвяка на растянутом брезенте всеми этими корабельными закоулками. Послав вперед сэра Исмея, чтобы на пути не оказалось спешащего по своим делам матроса или пассажира…
Но, с другой стороны, покойник скоро завоняет. А ну как до Нью-Йорка учуют соседи подозрительный запах из каюты?
– Послушайте моего совета, мистер Лайтоллер, – вдруг пришло в голову Юрию. – Не надо никого никуда тащить. Просто пусть мистер Макартур переложит покойного барона в ванну и принесет из того самого холодильника полсотни фунтов льда. Найдутся ли на «Титанике» какие-нибудь резиновые мешки? Обложите ими барона, этого хватит до Нового Света.
– Да, сэр, – тут же откликнулся Макартур. – Имеются клеенчатые мешки, на шлюпках для продовольствия. Думаю, их будет вполне достаточно, сэр!
– Хорошо, действуйте.
– Что до меня, – продолжил Ростовцев, – то с вашего позволения я сейчас пойду к себе. Мне нужно все записать, обдумать и наметить план действий.
Откровенно говоря, Юрий собирался сейчас прийти и попробовать выспаться, а уже утром на свежую голову определиться с расследованием. Но сыщику положено поддерживать реноме неутомимого и упорного человека, внушать веру в свои силы (хотя сейчас эта вера не помешает и ему самому).
На прощание Лайтоллер вдруг спросил:
– Мистер Ростовцефф, я знаю, что это против судовых правил, но… У вас есть оружие?
– Я обычно не пользуюсь оружием, – качнул головой стряпчий. – Кроме, разве что, ума… – И выразительно постучал указательным пальцем по лбу.
– Тем не менее, если потребуется, у нас в оружейной кладовой имеются отличные «смит-вессоны» тридцать восьмого калибра. При необходимости обращайтесь прямо ко мне!
– Благодарю!
…Юрий открыл дверь каюты и вошел, предварительно повернув выключатель. Надо лечь и попытаться поспать. Думать и действовать будем завтра, а сейчас нужно набраться сил.
Он закрыл за собой дверь и только потом обнаружил, что в каюте не все в порядке.
– Эхм… – только и вырвалось у него.
Сидевшая до того в кресле незнакомка поднялась, умоляюще посмотрев на него, и приложила палец к губам.
* * *Интерлюдия вторая. ЧАША МРАКАЧерная Земля, столица – Ахетатон, 16-й год правления Эхнатона (1330 год до Р.Х.)
«Вот и кончена жизнь!» – подумала Нефрет, сердце которой сжималось от обиды и боли.
Прошло всего полтора десятка лет с того времени, когда весь мир лежал у ее ног. Самое дорогое осталось для нее далеко, очень далеко, в детстве, когда все кругом было напоено солнцем, светом и теплом. Как она любила смотреть на Хапи, несущий свои воды от неведомых истоков к Великому Зеленому морю. Она вспомнила смех подруг, сладкие финики, пьянящий запах цветов лотоса…
Их было так много в ее покоях. Каждое утро слуги ставили в огромные вазы новые букеты лотоса. Эти цветы вплетались в прически и ими же украшались стены покоев. С того времени запах лотоса всегда напоминал Нефрет об утренней свежести и бесконечном счастье.
Счастье, ушедшем навсегда. Навсегда??
…Лучи утреннего солнца золотили комнату, бросали отсветы на стены, скользили по лазуритовым серьгам-скарабеям уже не юной, но все еще красивой женщины, на усталое и измученное, но по-прежнему прекрасное лицо. Она сидела, склонив голову, увенчанную синей короной с золотыми кобрами, и бессильно уронив на колени руки. Нефертити ждала гонца – тот должен был привезти ей ответ от фараона, который определит ее судьбу. Царица Та-Кемет уже провела много дней в томительном ожидании и все яснее начинала осознавать, что ответ ее господина вряд ли будет благосклонным. Зловещие предчувствия камнем давят на плечи…
В любое время может явиться посланник. Кто он будет? Вельможа, трясущий объемистым животом в осознании своей солидности и важности миссии? Надушенный благовониями евнух? Мальчишка-писец – преисполненный гордости, что ему доверено донести волю живого бога до отвергнутой женщины? Дворцовый раб – ему, жалкому невольнику, выпадет миссия стать вестником падения царицы? Или грубый, еле говорящий на языке Черной Земли наемник, вроде того ливийца, что стоит у ворот, опираясь на длинное копье?
Нефрет всхлипнула – она вдруг вспомнила, как на ее глазах такие же воины-иноземцы убивали священных кошек храма Баст – когда ее супруг объявил, что нет богов, кроме Атона – Солнца на небе и его – Эхнатона – на земле. Как, смеясь, накалывали на копья кричащих от боли и ужаса бедняжек – каких еще вчера никто бы не посмел и пальцем тронуть! По три-четыре извивающихся в агонии тельца на острие… Что им, дикарям с их дикарскими божками, древние боги святой страны? И что им царица – прикажут – и ее ждет такой же удар копья! Нефертити закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Тяжелой безнадежностью захлестнуло сердце. Жизнь кончена, сколько бы лет ни жило и ни дышало это тело.
Опальная владычица не будет видеть своих дочерей, может быть, только украдкой, издали… Ей – гордой Нефрет – владычице с чистой кровью богов в жилах, придется изо дня в день смотреть, как чувствует себя полновластной хозяйкой во дворце эта отвратительная распутная грязнокровка, неведомыми чарами прельстившая ее супруга. А как вытерпеть, что ее дорогие девочки, наследницы царского рода, прислуживают за столом этой самозванке, как сможет она спокойно наблюдать их склонившиеся в поклоне царственные головки?
Она не сумеет этого вынести. Лучше пусть судьба пошлет ей скорую смерть!
…Сколько себя помнит Нефертити, Владыка Верхнего и Нижнего царства – Жизнь-Здоровье-Сила – Аменхотеп всегда с восхищением смотрел на ее тонкие руки и изящную шею. Казалось, взгляд царевича устремлен в неведомую даль, куда нет доступа смертным! Нефрет привыкла к неземному взгляду и к тому теплому спокойствию, которое дает постоянство. Это было так естественно: они всегда рядом, всегда вместе, такие разные и столь необходимые друг другу. А потом супруг ее явил себя с совсем другой стороны…
День обнародования «великого повеления» стал днем скорби и печали для обеих земель древнего царства. Нефертити хорошо помнит, с каким непроницаемым лицом сидел на троне в то утро супруг, прижимая к груди священный жезл, каким раскатистым эхом разносилось в звенящей тишине каждое слово «сына Солнца» по всей державе. Она помнит немой ужас кормилицы, растерянные взгляды дочерей и внезапно закравшуюся в сердце тревогу. А потом она услышала слова невероятного, невозможного указа – которым Аменхотеп провозглашал единственным богом Атона – всетворящий, дарующий жизнь и смерть солнечный диск, а себя – его сыном, наделенным властью бога-отца. Весь остальной пантеон богов Черной Земли предавался забвению. Неповиновение каралось смертью. Вот тогда-то Аменхотеп, отрекшись от своего славного рода и имени, и стал Эхнатоном.
Храмы великих богов и богинь от границ Нубии до топей Дельты превращались в руины, среди которых завывали шакалы и рыскали прожорливые гиены. По царскому указу даже в самые отдаленные уголки страны к древним храмам снаряжались отряды карателей. Терзая зубилом и молотом священные камни, посланцы фараона уничтожали письмена, славящие опальных богов, и разбивали их статуи. Убивали и священных животных – ибисов Тота, крокодилов Ра, быков Хнума и кошек Баст… Убивали и тут же съедали их наскоро изжаренную на кострах плоть – что наемники: негры, ливийцы и «люди моря» – каких считали дикарями даже ливийцы; что рожденные в Черной Земле – словно мстя священным тварям за прежний трепет.
Немыслимо было перечить фараону: в те дни даже стены хижин простолюдинов имели уши. Никто не мог поручиться, что завтра к его дверям не придет конвой. Вероотступникам самое меньшее отрезали носы и били плетьми. Могущественные фавориты, еще вчера упивавшиеся властью и богатством, сегодня взирали пустыми от ужаса глазами на царя-бога. Придворные и вельможи спешно меняли имена, называя себя в честь всемогущего Атона. Нефрет же получила в дар от любимого супруга имя Нефр-Нефру-Атон.
Строительство новой столицы продвигалось быстро: тысячи рабов и простолюдинов согнали сюда со всех подвластных земель, работа не прекращалась ни днем, ни ночью.
И вот через два года в Град Атона вместе с Эхнатоном въехала на золотой колеснице Нефрет. Размах и красота ошеломили ее – и забылись ужасы богоборчества и страх, что разгневаются Девять Владык и сонм богов помладше…
Но еще до того Нефертити отбросила сомнения и полностью поддержала мужа и стала не менее убежденной сторонницей новой религии, чем сам Эхнатон. Ни одно из храмовых действ не могло происходить без нее, залога плодородия и процветания всей страны. «Она проводит Атона на покой сладостным голосом и прекрасными руками с систрами, – говорили о ней льстивые надписи, – при звуке голоса ее ликуют все». В то время щедр и великодушен был Эхнатон. Его жестокое сердце будто бы мягчилось… Привлеченные щедрыми посулами, отовсюду в Ахетатон спешили скульпторы, зодчие и живописцы – строили великолепные усадьбы и божницы, расписывали стены домов и гробниц яркими фресками.
Легко было в те дни на душе у Нефертити. Любовь фараона горела жарким незатухающим пламенем. Он осыпал жену пышными дарами: усадьбы, обширные виноградники, сады, зернохранилища и пивоварни. Велел построить для Нефрет личный флот и каждый корабль увенчать изображением ее прекрасной головки. А чтобы его возлюбленная была самой богатой царицей в мире, отдал Эхнатон в ее распоряжение треть казны.
Из уст в уста передавались легенды о богатстве и красоте царицы. Вся страна пела в ее честь гимны, именовали повсеместно «повелительницей всех женщин», «божественной, женой великой царевой, возлюбленной его». Ни властная Тия, обласканная Аменхотепом, ни мудрая Хатшепсут не достигли такого величия. Высоко вознесла воля фараона прекрасную Нефрет, и неслась она ввысь на крыльях его любви, не зная, что придется падать так, как не падала ни одна владычица черной земли Та-Кем… Беда пришла с той стороны, откуда ее не ждали. Шесть дочерей родила Нефертити, а долгожданного сына все не было. А боги (то есть бог Атон конечно) мог забрать к себе фараона в любой момент, и государство тогда останется без наследника.
Тут-то и подняли голову завистники и враги несчастной царицы.
Нашлись доброхоты, познакомившие Эхнатона с прекрасной юной наложницей именем Киа.
Когда та появилась при дворе, Нефрет теперь и не вспомнит. Только поразила она царицу бешеным разлетом черных бровей, жгучей красотой и диким блеском настороженных глаз. И хоть и была она чужда темной страсти, что питают иные женщины к себе подобным – все же на миг подумала, что неплохо быть мужчиной и овладеть такой красоткой. И назавтра забыла о смуглой дикарке. Да и разве был у Нефрет повод беспокоиться?! Сколько их было – звонкоголосых певиц, гибких танцовщиц, утонченных дочерей знатнейших вельмож и привезенных с военной добычей дикарок. Ho все эти женщины были вроде пиршественной песни: споешь ее, разгоряченный дурманом ячменного пива, и к утру забудешь. Она же – жена и царица – мелодия, которую сердце Эхнатона поет вечно.