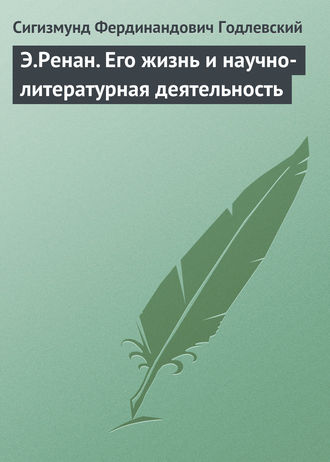 полная версия
полная версияЭ.Ренан. Его жизнь и научно-литературная деятельность
В его лице, казалось, порок отождествлялся с искусством, которое служило лишь средством гнусного неслыханного разврата. С высоты трона было объявлено, что добродетель – ложь; что христиане и вообще все добродетельные люди – или лицемеры, или крамольники и бунтовщики, которых необходимо истреблять, как диких зверей; что истинно порядочный человек только тот, кто, не стесняясь, сознается в своей полной порочности; что человек велик лишь в деле разрушения, когда он пользуется всем, не давая ничего взамен, когда он все бесповоротно разрушает или создает, следуя минутному капризу. Пожар Рима был одним из подобных капризов Нерона. Мнилось, что весь древний мир обречен на гибель по воле обезумевшего Цезаря, и в апокалипсических видениях отшельника из Патмоса, казалось, отразилась ужасная действительность. Жестокие преследования христиан, всеобщее падение нравов и неурядица, восстание иудеев, смерть Нерона, продолжительная осада и разорение Иерусалима, междоусобная борьба партий и убийства в Храме, триумф Тита и Веспасиана, избиение побежденных и скованных евреев среди игр – все эти сцены из истории осужденных на смерть народов в изображении Ренана соединяются в одно законченное целое. Среди всеобщей гибели восторжествовало лишь учение любви и всепрощения. С тех пор как ослепленный фанатизмом и обагренный кровью мучеников и палачей Иерусалим пал, победа христианства была обеспечена. «После возникновения учения Христа иудейство уже не имело более основания существовать, – говорит Ренан. – Израиль отдал все сыну своей печали и исчерпался в этом рождении. Закон появления великих созданий таков, что виновник жизни их умирает, передав бытие другому. После передачи жизни тому, который должен ее продолжать, виновник жизни есть не более как сухой ствол, зачахшее существо. Впрочем, редко бывает, чтобы этот приговор природы тотчас же исполнялся: отцветшее растение все еще стремится жить. Мир полон таких блуждающих скелетов, которые переживают поразивший их приговор. Иудейство принадлежит к числу их. История не знает зрелища более странного, чем то, каким является сохранение этого народа, который в течение почти тысячелетий не проявил жизненной отзывчивости к совершившемуся, не написал страницы, достойной прочтения, не дал нам верной о себе справки. Нужно ли удивляться тому, что, прожив таким образом целые века вне вольной атмосферы человечества, в подвале, если можно так выразиться, в состоянии особого рода безумия, он выходит из него бледным, чахлым?»
Конечно, утверждать, подобно Ренану, что жизнь какого бы то ни было народа исчерпывается одной идеей и что миллионы людей живут лишь исключительно ради идеальных целей, – это значит увлекаться, но тем не менее и независимо от подобных недостатков «История христианства» в общем дает верную картину событий той достопамятной эпохи.
В трех последних томах – «Евангелия» (т. V), «Христианская церковь» (т. VI) и «Марк Аврелий и конец древнего мира» (т. VII) – Ренан, с одной стороны, исследует условия и события, сопровождавшие создание Евангелий как апокрифических, так и канонических, прослеживает постепенный рост христианской церкви, изучает ее внутреннюю организацию и взаимные отношения различных христианских общин, а с другой стороны, изображает античный мир в эпоху борьбы его с иудейством и нарождающимся великим учением и наконец полное торжество христианства. Перед своей кончиной высокомерный языческий Рим еще раз встрепенулся и попытался отстоять свое существование и власть над миром. Этот момент очень ярко изображен в пятом томе. «После долгих жестоких испытаний, пережитых Римской империей, – говорит Ренан, – избрание Траяна на престол римских императоров обеспечивало цивилизованному человечеству того времени целое столетие благополучной жизни. Римская империя была спасена. Траян, которого усыновление Нервой поставило во главе империи, был действительно великий человек, настоящий римлянин, вполне владевший собой, хладнокровный в начальствовании над массами, серьезный и достойный. Нет сомнения, что он обладал меньшим политическим гением, чем Цезарь, Август и Тиверий, но он был зато выше их по своей справедливости и доброте. В отношении же военных талантов он уступал только Цезарю. Философией он не занимался, подобно Марку Аврелию, но был равен ему своей практической мудростью и благосклонностью. Его твердая вера в либеральные идеи ни разу не поколебалась. К философам Траян постоянно относился с величайшим уважением и с самой изысканной внимательностью. Таким образом между греческими учениями и римской гордостью установился наитеснейший союз. „Жить, как подобает римлянину и человеку“, – вот мечта каждого, кто сколько-нибудь уважает себя. Не подлежит сомнению, что древняя философия переживала тогда дни величайшего подъема: еще никогда она не проникала так глубоко в личную и общественную жизнь. Все это было похоже на какой-то запоздалый расцвет прекраснейшей умственной культуры, созданный совместными усилиями греческого и итальянского гения. В основании своем эта культура была осуждена на смерть; но, прежде чем умереть, она давала из себя последний рост листьев и цветов. И вот наконец настало время, когда мир человеческий будет управляться разумом. В течение ста лет философии предстоит наслаждаться присущей ей способностью делать народы счастливыми. Масса превосходнейших законоположений, составляющих лучшую часть всего римского права, принадлежит этому времени. Создаются общественные благотворительные учреждения; дети в особенности составляют предмет попечения государства. Правительство воодушевлено истинно нравственным чувством».
Однако сам Ренан признает, что во время мудрого управления великих императоров положение христианства оказалось в действительности гораздо худшим, нежели тогда, когда злодеи I века наносили ему жестокие удары. Ясно, что все эти прославленные цезари: Траян, Адриан, Антонин и Марк Аврелий, – если и были мудры, то лишь в весьма условном и ограниченном смысле; что их либерализм, подобно либерализму английских лордов, был только кажущимся; что они были в действительности преисполнены всяких предрассудков и римской гордости, не признающей ничего вне Рима, и что поэтому падение древнего мира, несмотря на внешние успехи и временный подъем античного духа, являлось неизбежным. Достаточно вспомнить, с какой неумолимой жестокостью Траян и Адриан подавили новое восстание евреев в Киренаиде, Египте и на Кипре, как все иудейское население местами было систематически и поголовно истреблено и как мятежники-евреи в пылу бешеной борьбы питались мясом римлян и греков, делали себе пояса из их кишок и кожи, купались в крови своих жертв, отдавали пленников живьем на съедение диким зверям и подвергали их утонченным мучениям; достаточно заметить, что рабство в то время процветало, чтобы убедиться в призрачности мечты о царстве разума в античном мире. Очевидно, древнееврейское правило «око за око и зуб за зуб» и власть высокомерного языческого Рима устарели и не могли устоять в борьбе с учением всеобщей любви и всепрощения.
Последний том «Истории христианства» заключает в себе очерк развития христианской церкви в царствование Марка Аврелия и параллельную картину усилий философии преобразовать государственный и общественный строй на основании чисто рациональных принципов.
«Второе столетие, – говорит Ренан в предисловии к седьмому тому, – имело двойную славу основать христианство, то есть великий принцип, реорганизовавший нравы путем веры в сверхъестественное, и видеть, как была испробована благодаря стоицизму и без всякого вмешательства супернатурализма высокая попытка светской школы. Обе эти попытки были чужды друг другу, но торжество христианства только тогда понятно, когда отдашь себе отчет в том, что попытка стоиков имела энергичного и что – недостаточного… В этом отношении Марк Аврелий является поучительной личностью, к которой постоянно приходится возвращаться. Он резюмирует собой все, что было лучшего в античном мире, и имеет еще то преимущество, что является без покрывала благодаря сочинению бесспорной искренности и достоверности. Более чем когда-либо я думаю, что период происхождения, эмбриогенез христианства, если так можно выразиться, оканчивается с Марком Аврелием в 180 году. В этот момент великое дитя имеет все свои органы; оно отделено от своей матери и будет жить уже собственной жизнью. К тому же смерть Марка Аврелия может быть рассматриваема как заключение античной цивилизации. Все, что делается хорошего после его смерти, не принадлежит уже эллино-римскому элементу; торжествует элемент еврейско-сирийский, и хотя нужно еще целых сто лет до окончательного его торжества, но уже и тогда видно, что будущее принадлежит ему. Третье столетие есть агония целого мира, который еще во II веке был полон жизни и сил».
Но уже в то время расцвет древнего мира является кажущимся, как отчасти признает и сам Ренан. Греко-римская философия стоиков, блестящим представителем которой был Марк Аврелий, не могла избавить древний мир ни от пороков, ни от возмутительных злоупотреблений, ни от ужасных насилий и жестокостей уже потому, что эта философия, по существу аристократическая, искала опоры лишь в человеческом разуме и с презрением отворачивалась от действительности, а погибающий древний мир нуждался в коренном нравственном перерождении.
«История первых веков христианства», состоящая из семи отдельных томов, посвященных исследованию выдающихся моментов в развитии учения Христа, даже по мнению ее автора не представляет сама по себе вполне законченного целого. Без сомнения, христианство возникло из иудаизма; учения Моисея и Христа, Старый и Новый завет, как известно из Священного писания, не находятся между собой в непримиримом противоречии, а, напротив, сливаются в одно неразрывное законченное целое; поэтому Ренан естественно должен был прийти к осознанию необходимости, поставив стены, воздвигнуть и фундамент того величественного здания, над постройкой которого он трудился столько лет. Таким фундаментом к «Истории христианства», по замыслу ее автора, должна служить «История израильского народа», написанная им, однако, много лет спустя, уже в глубокой старости (1887—1892 гг.). «В „Жизни Иисуса“, – говорит Ренан, – я пытался представить величественный рост галилейского дерева от земли до его верхушки, где поют небесные птицы. В книге, которую я писал в течение последнего лета, я полагаю раскрыть зародыши христианства, исследовать почву, где заложены его корни». Однако вполне этой цели он не достиг, ограничившись лишь изучением религиозных стремлений Израиля.
Мы уже знаем, что, по мнению Ренана, весь смысл существования «избранного народа» сводится к созданию великой религиозной системы, что с появлением Христа эта цель была достигнута вполне и еврейский народ давно уже обречен на смерть. Однако он все еще живет и хочет жить, как живут многие народы, не создавшие никакой особенной ни политической, ни религиозной системы и не признающие над собою высшей власти идеи. Все дело в том, что «жизнь для жизни нам дана» и что развитие народов, как и личности, не исчерпывается служением одной отвлеченной идее, что обусловлено оно стечением разнородных начал и чрезвычайно сложным сочетанием социальных, экономических, исторических, этических и других законов. Воспитанный монахами Ренан был склонен придавать чрезмерное значение религиозной идее в развитии человечества, упуская из виду влияние других, не менее существенных исторических факторов. Его «История израильского народа» является в сущности лишь историей религиозных верований Израиля.
В интересах изложения мы отступим несколько от хронологического порядка и постараемся в общих чертах передать здесь содержание этого последнего произведения Ренана в связи с его прочими трудами по истории религий. Метода, какой следовал в данном случае автор, уже нам известна; ее особенность заключается в своеобразном сочетании приемов исключительно художественных и литературных с научными. В «Истории израильского народа» эта особенность сказывается очень сильно. Ренан иногда прерывает повествование о давно минувших исторических событиях ссылками и намеками на современное положение вещей во Франции и т. п. Свое изложение он начинает с древнейших времен, когда израильский народ являлся еще малочисленным племенем сирийского происхождения, живущим в ближайшем соседстве и общении с филистимлянами, аммонитянами, моавитами и другими столь же невежественными и полудикими народами. Его прародители, легендарные патриархи, по словам Ренана, поклонялись фетишам, или так называемым «елогимам». Затем установился культ Иеговы, который первоначально являлся не единым Богом-Вседержителем и Творцом вселенной, а исключительно национальным покровителем Израиля, как Ваал у финикиян, Дагон у филистимлян и Молох у аммонитян. Этот бог Израиля обладал в полной мере всеми ужасными свойствами национальных языческих богов: был завистлив и жесток, особенно с врагами своего народа, а гнев его мог быть утолен лишь кровью жертв.
В эпоху Давида и его преемников, историю которых Ренан излагает очень подробно, понятие единого всемогущего Бога еще не получило надлежащего развития и еврейский народ еще не освободился окончательно от чудовищных представлений политеистического миросозерцания. Полная религиозная эмансипация наступила лишь в VIII веке до Р.Хр. под влиянием великих пророков Михея, Осии, Амоса и Исайи, с несравненной силой выразивших идею всеведущего и вездесущего совершенного Бога, требующего от людей не кровавых жертв, а нравственного совершенства и чистых молитв.
Этот момент полного расцвета религиозных верований Израиля, возвысившегося наконец, после долгих колебаний и тяжких падений, до идеи чистого духовного монотеизма, служащей выражением величайшего торжества человеческого духа над ограниченными материальными представлениями, изображен Ренаном очень рельефно, но в характеристике выдающихся исторических деятелей автор расходится с господствующими на этот счет воззрениями; так например, благочестивый псалмопевец царь Давид является у него, подобно большинству политических деятелей, довольно заурядным честолюбцем, не особенно разборчивым в выборе средств для достижения намеченных им личных целей. Легендарная мудрость царя Соломона также изображена Ренаном в несколько двусмысленном виде. Прославленный Храм представляется вообще довольно жалкой и посредственной постройкой, и т. п.
Эпилогом к «Истории израильского народа» служит превосходный очерк царствования иудейского царя Ирода Великого, напечатанный уже после смерти Ренана. В личности этого легендарного тирана, полуараба, полуеврея, порвавшего связи с историей и религией своей страны, проявляется какая-то демоническая сила. Хладнокровие, с каким он совершал ловко обдуманные убийства, например, утопление во время купания ненавистного ему еврейского первосвященника, производит ужасное впечатление. По-видимому, он проникся древнеэллинским духом и стремился играть роль покровителя искусств, особенно зодчества. Не меньше Нерона он заботился об украшении своей столицы и устройстве зрелищ для народа в римском вкусе. В сравнительно короткое время Ирод достигает значительных успехов в управлении страною, материальное благосостояние которой благодаря ему быстро возрастает. Его цель – установление сильной светской власти взамен теократического строя древней Иудеи – обличает в нем великого преобразователя, одаренного недюжинным умом и прозорливостью. Он как будто создан для того, чтобы возвеличить и спасти свою страну, но на самом деле весь блеск его царствования – обманчивый блеск. Это лишь зарево ужасного пожара, раздутого преступником, чтобы скрыть следы гнусных злодеяний. В душе Ирод – такой же зверь, как и Нерон, которому по своей жестокости и неверию он мог бы послужить наглядным образцом и прототипом. Правда, oн мирился с религией своей страны, но лишь как с необходимым обрядом, а добродетель ненавидел, конечно, не меньше Нерона. Он не уступал последнему также в подозрительности и в злобе; в сущности, Ирод ненавидел всех, не исключая даже своей любимой жены Мариамны, которую под пустым предлогом осудил на казнь. И наконец уже на смертном одре, измученный ужасными видениями, смутными предчувствиями и таинственной мучительной болезнью, он при одной мысли, что его сын после его кончины, освободившись из тюрьмы, может вступить на престол, доходит до такого бешенства, что на краю могилы делается сыноубийцей. Не обладая и сотой долей власти Нерона, он успевает совершить в полном уме и здравой памяти не менее злодеяний, чем безумный цезарь.
Наряду с вышеизложенными обширными историческими трудами Ренан написал целый ряд сравнительно небольших этюдов по истории религий, изданных в виде двух объемистых сборников, по богатству и разнообразию содержания представляющих исключительное явление во всемирной литературе. Это целая картинная галерея. Прежде всего мы с изумлением останавливаемся перед мастерскими портретами известных религиозных деятелей, средневековых монахов и реформаторов вроде Кальвина, мыслителей, проникнутых святою любовью к истине, как Галилей и Спиноза, святых мистиков вроде Франциска Ассизского, влюбленного в бедность, и Екатерины Стомельн, с сердцем невинным, как у ребенка, и израненным, как у мученика, тихо умирающей от любви к Богу и неразгаданного чувства к человеку, зажегшему в ее душе всепожирающее пламя веры. Рядом с блестящими характеристиками отдельных личностей здесь же помещены целые картины из средневековой религиозной жизни, изображения схоластических споров и столкновений различных сект с господствующею церковью, этюды по истории буддизма и магометанства, исследования по сравнительной мифологии и очерки древнеперсидских и древнегреческих верований.
В изображении самых сложных и разнообразных религиозных настроений народа и отдельных личностей Ренан является не только великим мастером, но и пионером. Во Франции особенно этот род литературы сорок лет тому назад находился в таком пренебрежении, что даже ловкий и проницательный Бюлоз, издатель журнала «Revue des deux Mondes», отказался напечатать исследование уже не безызвестного тогда Ренана «О буддизме» под тем предлогом, что оно мало правдоподобно и неинтересно для читающей публики. Как оказалось, Бюлоз на этот раз ошибся, и автор «Истории христианства» и «Этюдов по истории религий» вскоре достиг такого крупного успеха, какой выпадает на долю лишь немногих избранных. Он сумел заинтересовать даже легкомысленный, рассеянный Париж вопросами религии и морали. Секрет этого исключительного успеха, однако, очень прост: исследование религиозных верований у Ренана сводится к изучению человеческого духа и сердца, этого неиссякаемого источника всех наших надежд и упований. На первом плане у него не религиозный догмат, а скрытое в глубине догмата чувство; внешняя форма интересует Ренана настолько, насколько она может послужить к уразумению великих тайн души. Религия с его точки зрения является лишь основным фактом умственного развития человечества. Вот почему в его изображении даже нелепые схоластические споры и чудовищные религиозные представления первобытных народов не кажутся нам скучными и ничтожными. Раскрывая перед читателем весь ужас падения отживших религиозных систем, когда вместе с низверженными богами гибли и миллионы верующих, Ренан всегда с глубоким сочувствием относится к страданиям человека, стремящегося к познанию вечной истины и обреченного на безысходную борьбу и скитания без конца. Основатели новых религий, великие реформаторы, проповедники, святые с его точки зрения являются прежде всего людьми, не чуждыми обычных слабостей и недостатков. Все их величие заключается лишь в беззаветном стремлении к истине, а не в личных достоинствах. Как сильно эта черта сказывается, например, в Магомете.
«Он несколько раз делал зло совершенно сознательно, – говорит Ренан, – отлично зная, что повинуется своей воле, а не вдохновению свыше. Он дозволяет разбойничество, предписывает убийство, он лжет и позволяет лгать другим на войне из военной хитрости. Можно бы привести тысячи случаев, когда он поступает против нравственности из политической выгоды. Один из его самых странных поступков, конечно, есть обещание Осману прощения всех грехов, которые он может совершить до своей смерти, в награду за большой денежный взнос».
В довершение всего Магомет до безобразия женолюбив, но он все же велик в своих первых испытаниях, велик в силу своей веры.
«В глазах критика, стоящего среди бегущей и неуловимой действительности, – говорит в заключение Ренан, – нет ничего абсолютного в человеке, носящем рядом с печатью красоты и свое прирожденное пятно. Кто может в своих собственных нравственных ощущениях определить линию, отделяющую приятное от ненавистного, безобразие от красоты, ангельское видение от сатанинского и даже, в некоторой степени, – радость от горя? Так как религии – самые полные произведения человеческой натуры, выражающие ее с наибольшей цельностью, то они настолько же подвержены противоречиям и не допускают суждений простых и абсолютных. Святой и негодный, прелестный и отвратительный, апостол и фокусник, небо и ад подают друг другу руки, как видения тревожного сна, когда поочередно появляются все образы, скрытые в извилинах фантазии».
Но если даже наши верования обманчивы, как сновидения, если даже то, что мы считаем безусловной истиной, оказывается впоследствии лишь неизбежным заблуждением, тогда на что же нам надеяться? Где эта высшая правда, без которой вся наша жизнь – тяжелый кошмар и невыносимое бесцельное страдание? Высшая правда – в бесконечном стремлении к Богу; вся наша надежда заключается в постепенном умственном развитии, в неутомимом стремлении к самосознанию и нравственному совершенству, – вот основной принцип трудов Ренана по истории религий. Без этого принципа все выводы автора «Истории христианства» имели бы для нас лишь отрицательное значение.
Глава VI
Путешествие в страну льдов. – Политическая катастрофа. – Полемика со Штраусом по поводу франко-германской войны. – Политические воззрения Ренана и его философские драмы.
Летом 1870 года Ренан в свите принца Наполеона отправился в страну льдов, на Шпицберген. В то время еще никто не замечал надвигавшейся грозы и не предчувствовал бедствий опустошительной войны, нанесшей такие ужасные раны несчастной, обманутой Франции. Ренан, вообще не обладавший житейской прозорливостью и политическими талантами, разделял всеобщие иллюзии и хотя был не особенно высокого мнения об уме императора Наполеона III, но, очевидно, еще не понимал, до какой степени этот честолюбец успел развратить и одурачить великую страну. Если бы великий писатель знал истинное положение вещей, то, конечно, в статье своей под заглавием «Конституционная монархия во Франции», напечатанной в 1869 году, за год до восстановления республики, не пытался бы доказывать, что республиканский режим совершенно немыслим во Франции.
Если бы он мог предвидеть, что дни империи сочтены, то, вероятно, не решился бы выступить кандидатом в члены законодательного собрания и не написал бы президенту совета министров, пресловутому Оливье, письма, в котором, стараясь выказать благонамеренность, уверял, что он не Лютер XIX века и не «папа свободомыслия», как остроумно прозвал его Дюма-сын. К чести Ренана следует, однако, заметить, что его попытки сыграть политическую роль не увенчались успехом: он потерпел неудачу как в 1869 году, так и в 1876 году, когда выступил кандидатом на пост сенатора республики. Очевидно, великий идеалист и мечтатель был неспособен ни к компромиссам с печальной действительностью, ни к оценке современных сложных политических событий. По крайней мере франко-германская война явилась для него совершенной неожиданностью, ужасной катастрофой, в которой одновременно с благосостоянием и спокойствием родины рушились и его лучшие надежды. Первые смутные вести о близкой войне между двумя наиболее культурными государствами Европы застигли путешественников в городе Бергене, но принц Наполеон и его спутники не придали им никакого значения. Война казалась всем такой нелепой и бесцельной, что никто не хотел верить, чтобы правительство осмелилось ее объявить. Решено было ехать дальше. В Тромзе, однако, была получена депеша о неизбежности войны от самого Оливье, а на другое утро после тревожной ночи Ренан с глубоким волнением заметил, что пароход, на котором он ехал, отправляется не на север, а назад, к берегам Франции. Сомнений больше не было: ужасное бедствие разразилось над цивилизованной Европой. Гнусная война по воле безумных честолюбцев была объявлена. Известный критик и публицист Брандес рассказывает, что по возвращении в Париж из неудачной поездки Ренан казался очень расстроенным. Куда девалось олимпийское спокойствие великого писателя, его самоуверенный, слегка насмешливый, изящный тон, так восхищавший парижан и поразивший Брандеса при первой встрече с ним всего лишь несколько месяцев тому назад?! Под влиянием глубокого негодования Ренан забыл даже свой основной литературный принцип, гласивший, что истина заключается лишь в тонких оттенках, и, нисколько не сдерживаясь, без малейших оттенков и оговорок клеймил названием «негодяев» и «бездарностей» людей, стоявших в то время у кормила правления. «Никогда еще несчастный народ не находился под властью подобных дураков, – говорил он Брандесу, видимо взволнованный, со слезами на глазах. – Со стороны кажется, что император лишился рассудка, но виноваты его приближенные, ведь это все низкие льстецы. Подумать страшно, что все труды людей науки и прогресса погибли от одного удара. Все рухнуло: симпатии между двумя народами, взаимное понимание, полезный совместный труд. Как подобная война убивает всякую любовь к истине! Какая ложь, какая клевета друг на друга в течение по крайней мере полувека будет признаваться за несомненную истину между двумя враждебными народами. И эта ложь, подобно глухой стене, разъединит их. Как гибельно это отразится на умственном развитии Европы! Сотни лет не хватит для восстановления того, что честолюбцы разрушили в один день!»

