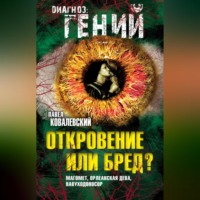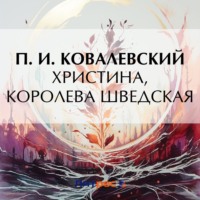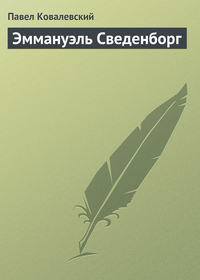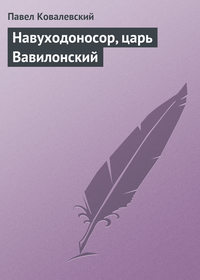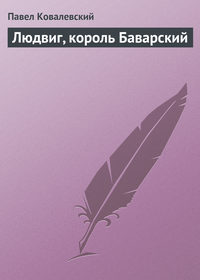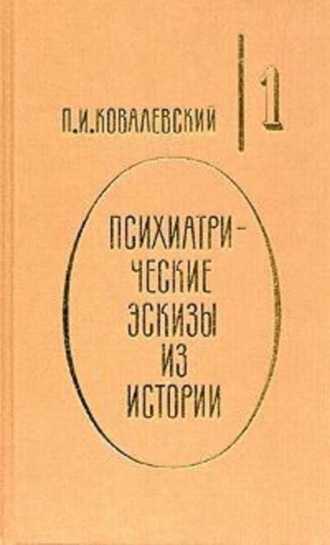 полная версия
полная версияГенералиссимус Суворов
О, долго, долго пришлось Суворову уламывать фаворита, пока получил прощение.
Суворова вновь послали на Кинбурн, но и отсюда он сумел быть полезным и в решительную минуту помочь Потемкину взять Очаков, за что и получил брильянтовое перо на шляпу.
Вскоре турецкая война приняла новый оборот. В войну вмешалась Австрия. В этой войне Суворов вполне заслуженно получил европейскую известность на глазах благородных свидетелей. Суворов был отправлен на пункт, где он стоял рядом с австрийской армией. Это был самый важный пункт, и нужно было ожидать особенно сильного нападения на него со стороны турок. Начальником австрийских войск был принц Кобургский.
Вскоре австрияки заметили движение сильной турецкой армии на Фокшаны. Принц Кобургский послал к Суворову просить помощи. Погода была скверная, и Кобург приходил в отчаяние. Но он был поражен необыкновенно быстрым прибытием армии Суворова. Нужно было составить план защиты и уговориться относительно поддержки. Кобург был старше и потому послал приветствовать Суворова и просить о личном свидании. Суворов дал уклончивый ответ. Второй посол. Генерал молится Богу и посла не приняли. Третий посол. Генерал спит. Хоть кому станет жутко… А день прошел. Вдруг в одиннадцать часов ночи Кобург получает краткую записку от Суворова: «Войска выступают в два часа ночи тремя колоннами. Среднюю колонну составляют русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими поисками влево и вправо. Говорят, перед нами турок тысяч пятьдесят, а другие пятьдесят – дальше. Жаль, что они не все вместе, лучше бы было покончить с ними разом».
Боевая известность Суворова и благоразумие Кобурга были причиною тому, что план его приведен был в точное исполнение. В результате получилась блестящая победа. Широкий ум одного понял силу гения другого, и искренняя дружба на всю жизнь соединила этих двух людей. Чисто братские отношения вождей отразились и на армиях: русские и австрийцы отнеслись друг к другу по-братски. Как австрийская армия, так и австрийский император бесспорно признали, что победа при Фокшанах одержана была главным образом Суворовым.
Императрица Екатерина была очень обрадована этим подвигом Суворова и наградила его брильянтовым крестом и звездою к Андрею Первозванному, а австрийский император – брильянтовой табакеркой с брильянтовым шифром. Даже турки не забыли своего победителя и назвали Токаль-паша и его именем пугали детей.
Через два месяца турки вновь начали наступать на австрийцев. Явился Суворов. На этот раз турецкие силы в четыре раза многочисленнее армии союзников. День, в который произошло это сражение, совпал с днем разгрома Суворовым Огинского. И вот Суворов во второй раз, теперь при Рымнике, в тот же день прославил имя русской армии и свое полною блестящею победою. Теперь и Потемкин забыл против Суворова все свои обиды и искренно радовался и поздравлял его. За эту славную победу Суворов получил звание графа Рымник-ского, Георгия I ст., брильянтовый эполет и весьма богатую шпагу, к этому добавлен еще был дорогой перстень. Австрийский император также жаловал Суворову графский титул Священной римской империи.
С великим удовольствием он писал своей Суворочке как о великих победах, так и о всех милостях, по этому поводу на него излитых.
Для полного успеха в войне нужно было взять крепость Измаил, которая всеми считалась неприступною. Но было ли что Суворову недоступно в войне!.. Суворов назначается к Измаилу с поручением взять его.
Весть о назначении Суворова под Измаил быстро пронеслась по войскам, а вместе с этим и убеждение, что Измаил будет взят немедленно. И вот 2 декабря рано утром к русским аванпостам под Измаилом подъехали два всадника. То был Суворов с казаком, везшим в небольшом узелке багаж генерала. Тем не менее моментально раздался пушечный салют с батарей и все от мала до велика оживились и просияли. В лице маленького худенького старичка явились честь, слава, храбрость и победа. Вскоре Суворов отправился по полкам. Находил знакомых солдат, вспоминал прежние подвиги, беседовал, острил, смеялся и всех обласкал добрым словом. Это был добрый гений. Это был вдохновитель беззаветной храбрости, самоотвержения, силы, энергии, бесстрашия и безумной самоуверенности в победе. Полководец не скрывал от солдат трудность дела. Напротив, он знакомил их с препятствиями, учил, как их преодолеть, и в будущем указывал на пущую славу, которую они, несомненно, должны восприять.
Ознакомившись с положением дела, наэлектризовав войска, сделав надлежащие. распоряжения, Суворов составил военный совет, в котором заявил: «Я решился овладеть этой крепостью или погибнуть под ее стенами». Казак Платов на это возгласил: «Штурм», все остальные к нему присоединились. Перецеловав всех, Суворов сказал: «Сегодня молиться, завтра учиться, послезавтра победа либо славная смерть».
Перед штурмом Суворов послал следующую записку в Измаил: «Сераскиру, старшинам и всему обществу! Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление – воля; первый мой выстрел – уже неволя; штурм – смерть. Что ставлю вам на размышление». Турки отвечали: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Дунай не остановился в своем течении и небо не упало на землю, а Измаил был взят Суворовым.
Суворов писал Потемкину: «Нет крепче крепости, отчаяннее обороны, как Измаил, падший перед Высочайшим троном Ея Императорского Величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость».
Измаильский штурм отличался нечеловеческим упорством и яростью турок, так как они знали, что пощады не будет. Это упорство безнадежного отчаяния могло быть сломлено только крайним напряжением энергии атаковавших… Храбрость русских войск под Измаилом дошла как бы до совершенного отрицания чувства самосохранения… Спустя некоторое время Суворов, проезжая мимо одной из финляндских крепостей, спросил своего спутника:
– Можно ли взять эту крепость штурмом?
– Какой крепости нельзя взять, если взят Измаил…
Суворов задумался и, после некоторого молчания, заметил:
– На такой штурм, как измаильский, можно пускаться один раз в жизни.
Турки пришли в ужас. Вся Европа была изумлена и поражена. Россия обожала своего героя-победителя… Что ждало героя?…
Суворов лично отправился к главнокомандующему Потемкину с докладом. Оба горели нетерпением броситься в объятия и облобызаться. Суворов влетел к Потемкину, и они обнялись…
– Чем я могу наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич?
– Ничем, князь. Я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и государыни, никто меня наградить не может.
Потемкин побледнел. Оба молча прошлись несколько раз по комнате, раскланялись и разошлись…
Турецкая война блестяще кончилась. Потемкин был осыпан почестями, милостями и наградами. Герой Суворов был в тени. О нем забыли… Поделом, – не обижай фаворита… О жизнь, это ты!..
Мир. Беспокойный Суворов опять в Финляндии… Кончил в Финляндии, его послали на юг. Всюду Суворов вел дело добросовестно, исполнительно и абсолютно честно. Ни в мире, ни на войне Суворов не знал и не ведал, что такое взятка… Когда после Измаила из военной добычи Суворову привели прекрасного коня, он и от того отказался. Недаром солдаты говорили, что Суворов во всем с ними в доле, кроме добычи. Покончив служебные дела, Суворов часто живал в деревне. Бездеятельность его томила. Суворов опять скучал, томился, капризничал, писал знакомым жалобы на свою долю, просился у императрицы в иноземные войска. Он боялся, что его обойдут…
В это время началась третья польская война. Суворов не был туда назначен. Это его обидело. Война шла вяло, медленно, малоуспешно. Суворов издевался над ведением войны и высказал, что он бы окончил войну в 40 дней. Его поймали на слове, и Суворов опять в деле.
Во главе польского восстания стоял знаменитый Костюшко. Это был человек ума недюжинного и прекрасный военный организатор. Хотя он был вполне убежден в тщете восстания, тем не менее взял возложенную на него ответственность и решил отдать делу родины все, даже свою жизнь. Были и другие между поляками талантливые люди. Но Суворов знал, с кем имел дело. Война предвиделась партизанская. Натиск и быстрота здесь были более, чем где-либо, уместны: Суворову нечего было учиться этому.
В Польшу вступил Суворов с отрядом в 4500 человек, да на пути прихватил несколько мелких отрядов. И вот с этими силами Суворов наскочил на корпус Сераковского. После боя при Крупчицах и Бресте корпуса Сераковского не стало. Суворов его уничтожил. Через несколько дней от начала похода Суворов извещал главнокомандующего Румянцева: «Брестский корпус, уменьшенный при монастыре Крупчице 3000-ми, сего числа кончен при Бресте. Поляки дрались храбро, наши войска платили им отчаянностью, не давая пощады».
Овладев Брестом, Суворов остановился поджидать прибытия войск. Он не любил безделья и потому на досуге занялся обучением войск. В основу его обучения лег его знаменитый катехизис. Война в Польше отличалась своеобразностью. В числе русских войск было много поляков, которые передавали своим о намерениях и планах действий русских войск, почему часто приходилось действовать без приказов, моментально. Благо, командиром был Суворов. Среди ночи он вскакивал с постели, вылетал на двор, окатывался холодной водой, а затем хлопал в ладоши и кричал петухом. Это значит – вставай, и солдаты моментально вставали и готовились к походу. Такой прием избавлял Суворова от приказов, о которых немедленно узнавали поляки. Суворов знал солдат, и солдаты знали его. Это была едина душа, едино тело.
Предстояло взять Прагу. Без Праги не могла существовать Варшава. С Варшавой падала Польша. Прага не была Измаил, но это была действительно сильная крепость, устроенная по всем правилам современного искусства и защищаемая людьми, готовыми положить свою жизнь за отечество.
Подобно тому как под Измаилом, Суворов не скрывал от войска всех трудностей штурма. Напротив, он знакомил солдат с ними, подготовлял их к тому и укреплял в непоколебимой мысли, что Прага уже обречена на взятие. Остается подняться, пойти и взять. Это говорил Суворов. А раз говорит Суворов, – кончено. С взятием Праги считались еще до штурма, как с фактом прошлым и законченным… Ведь это говорил их отец… Случилось следующее: наступили холода. Не было теплой одежды. Солдаты мерзли и страдали. Суворов все это время ходил в холщовом кителе и надел суконную куртку последним, когда все солдаты были уже тепло одеты. Это солдаты видели и понимали.
Между тем Костюшко был взят русскими в плен, и теперь надлежало кончать с Прагой и Польшей. Штурм был назначен в ночь с 23 на 24 октября, а в 9 ч. утр а Прага уже была взята. Кровопролитие было страшное. Поляки защищали свою отчизну и жизнь, русские мстили за своих соотечественников, злодейски вырезанных в Варшаве поляками. В числе штурмовавших русских были свидетели, как в Варшаве поляки, по почину Килинского, резали причащавшихся безоружных солдат, женщин и маленьких детей… Трудно было ждать ввиду Варшавы пощады от русских, бывших свидетелями этих бесчеловеческих злодейств. Было бы то же и с Варшавой, и очень скоро… Суворов сам не ожидал последствий победы. Он быстро сообразил и то, что станется с Варшавой, если войска немедленно кинутся туда по мосту за бегущими поляками… Суворов приказал зажечь мост в Варшаву, и Варшава была спасена от огня, меча и разграбления…
«Сиятельнейший граф, ура, Прага наша! Дело сие подобно Измаильскому», – пишет в своей реляции Суворов Румянцеву. На другой день из Варшавы прибыла к Суворову депутация просить пощады, и Суворов дал пощаду на условиях гораздо слабейших тому, чем поляки могли ожидать.
29 октября состоялось торжественное шествие Суворова и его войск в Варшаву. На конце моста магистрат города Варшавы поднес Суворову городские ключи. На улицах Варшавы стояли толпы народа, встречавшие победителя далеко не враждебно. Со взятием Варшавы польская кампания была кончена. Суворов исполнил свое слово: выполнил кампанию в 45 дней. Теперь оставалось дело умиротворения края, что Суворов также блестяще исполнил.
По прибытии от Суворова в Петербург посла с ключами города Варшавы и варшавским хлебом-солью отслужен был благодарственный молебен. Суворочка удостоилась от императрицы самого благосклонного внимания и собственноручного угощения варшавским хлебом-солью. На парадном обеде стоя пили за здоровье фельдмаршала Суворова, при 201-пушечном салюте, причем императрица Екатерина говорила о нем в самых любезных и милостивых выражениях. Государыня написала Суворову два собственноручных рескрипта, из которых в одном говорилось, что Суворов своими победами сам себя возвел в фельдмаршалы, нарушив старшинство, от которого государыня отступать не любила. Суворов получил дорогой фельдмаршальский жезл, богатый брильянтовый бант к шляпе и именье в 7000 душ.
Рад был фельдмаршальству Суворов и на радостях не обошелся без причуд. Когда привезли фельдмаршальский жезл, то, по приказанию Суворова, его отнесли в церковь для освящения. Сам Суворов отправился туда в куртке без знаков отличия. Затем приказал принести несколько стульев, расставивши их на расстоянии в позицию, и стал через них перескакивать, приговаривая после каждого прыжка: «Репнина обошел, Салтыкова обошел, Прозоровского обошел» и т. д., поименовывая всех генерал-аншефов, которые были старше его.
Получил награды Суворов и от иностранных государей: от прусского – ордена как знак «ненарушимого уважения и особенного почтения, хотя Суворов не нуждается в этих орденах для возвышения своей славы и, конечно, их не ищет…» Австрийский император прислал свой портрет, брильянтами осыпанный, с крайне любезным рескриптом, в котором называет его учителем своей армии.
Не остались без наград и сподвижники Суворова, причем в этом отношении он был очень щедр. Так, об одном инженер-поручике государыня говорила: «… граф двух империй расхваливает одного инженерного поручика, который, по его словам, составлял планы атаки Измаила и Праги, а он, фельдмаршал, только выполнял их, вот и все».
Наконец, Суворов получил лестный дар от того, от кого уж никак не мог этого ожидать. 24 ноября 17 94 года, в Екатеринин день, магистрат города Варшавы поднес ему золотую эмальированную табакерку с лаврами из брильянтов. На середине крышки был изображен герб города Варшавы – плывущая сирена, над нею надпись «Warszawa zbawcy swemu» (Варшава своему спасителю), а внизу другая надпись – «4 ноября 17 94 г.», день штурма Праги по новому стилю.
Покончив дела в Польше, Суворов двинулся в Петербург. Как всегда, он ехал просто, без блестящей свиты и на первых порах попал в анекдот. Раз он остановился на ночлег в хате, в которой раньше его приезда на печи заснула глухая старуха, о которой вовсе забыли. Перед сном, по обыкновению, Суворов окатился холодной водой и, для того, чтобы согреться и размяться, стал прыгать голый по комнате, распевая арабские изречения из корана. На беду, в этот момент проснулась старуха, высунулась из запечья, увидала прыгающего голого черта и благим матом закричала: «Ратуйте, с нами небесные силы…» Перепугался ничего не ожидавший и фельдмаршал и, в свою очередь приняв бабу за черта, тоже заорал. Сбежались люди и развели напуганных стариков…
На пути Суворову устраивались торжественные встречи, которые, однако, Суворов всячески старался отклонять.
При въезде в Петербург Суворову выслана была придворная карета. Суворов в фельдмаршальском мундире пересел в карету и, несмотря на сильный январский мороз, ехал в ней без верхнего платья и шляпы. Государыня встретила фельдмаршала весьма мило и, в угоду ему, приказала завесить во дворе все зеркала, так как Суворов не выносил зеркал. Местом для жительства ему назначен был Таврический дворец.
Не забыл Суворов сделать визит и фавориту Екатерины Платону Зубову. Но при этом вышел курьез. Когда Суворов был у Зубова, то последний встретил его в обыкновенном повседневном платье. Это обидело старика фельдмаршала. Поэтому когда Зубов явился к нему с обратным визитом, то Суворов принял его в дверях своей спальни в нижнем белье, а затем свой поступок объяснил Державину словами – vice versa.
По обыкновению, живя в Петербурге, Суворов чудил, и в перспективе ему усматривалась Финляндия. У государыни Суворов бывал не часто. Узнав, что, едучи к ней, Суворов был в одном сюртуке, государыня подарила ему соболью, зеленым бархатом крытую, шубу. Тогда Суворов, едучи во дворец, брал ее с собою, но держал на коленях, а не надевал. Беспощаден он был в своих остротах с Салтыковыми, которые на него злились за то, что он обогнал их по службе. Доставалось от него и другим.
Принимая визиты именитых чиновников, Суворов иногда выходил на подъезд, влазил в карету, несколько минут беседовал с гостем и с Богом отпускал. Раз явился гость во время обеда, Суворов приказал принести стул и поставить около себя. Посадив на нем гостя, он сказал: «Вам еще рано кушать, прошу посидеть». Побеседовав несколько минут, он отпустил гостя, не поднявшись со стула.
На приеме во дворце раз государыня спросила Суворова: «Чем потчивать дорогого гостя?» – «Благослови, царица, водочкой». – «А что скажут красавицы фрейлины, которые будут с вами разговаривать?» – «Они скажут, что с ними говорит солдат». Екатерина собственноручно подала ему рюмку водки.
Раз наследник, Павел Петрович, пожелал видеть Суворова. Суворов вошел и начал школьничать. Наследник этого терпеть не мог и потому заметил ему: «Мы и без этого понимаем друг друга». Суворов притих, но, удаляясь после разговора, побежал вприпрыжку по комнате, напевая: «Prince adorable, despote implacable». Разумеется, об этом передано было Павлу. Суворов скучал, злился, издевался, бранился и надоел всем. Пора было в Финляндию, и его послали в Финляндию. Пошла прежняя история с крепостями, Крымом, югом России и проч. Появились слухи о войне с Францией. Суворов стал волноваться – назначат ли его туда… В это время скончалась императрица Екатерина и на престол взошел Павел…
Император Павел знал Суворова. Однако времена изменились, – изменились и условия бытия. В первое время император отнесся к Суворову довольно милостиво. Суворов тоже держал себя осторожно, но затем стал прорываться. Императору донесли, и падение Суворова было предопределено. Да иначе и быть не могло. Сошлись две несовместимые величины. Один неограниченный монарх, человек крайне нервный, неустойчивый, даже необыкновенно изменчивый, до болезненности самолюбивый, недоверчивый, подозрительный, вспыльчивый и нередко безжалостный. Другой – старик, создавший своею жизнью и подвигами всемирную известность, стяжавший славу и величие себе и своей родине, вполне это сознававший и необыкновенно гордый и самолюбивый, неограниченно властолюбивый, также нервный, раздражительный, вспыльчивый, обидчивый и неуступчивый. Один имел свою систему ведения дела и считал ее незыблемо верной и полезной, другой тоже имел свою систему, которою он на деле стяжал лавры себе и родине. Один имел все права на власть по рождению и закону, другой – по праву многолетней и плодотворной деятельности. Один имел все права на почтение по своему положению, другой по заслугам… Могли ли они сжиться и стоять рядом!.. Один должен был исчезнуть, – и он исчез.
Суворов не выдержал своего положения. Он стал делать едкие замечания по поводу войска Павла, отпускать мелкие остроты на счет его приближенных, да и вел себя при императоре неподобающе, неспокойно. Павел сердился и делал Суворову замечания по пустякам. Суворов увидел, что дело может окончиться плохо, и подал прошение об отставке. Но враги предупредили его, – успели настроить Павла, и Суворов был уволен без прошения. Мало того, Суворов был сослан в маленькое имение и отдан под надзор…
Теперь Суворов сошел на положение частного человека, простого гражданина. Остановимся на жизни Суворова.
Она была почти одинакова в военное и мирное время.
Вставал Суворов в 2–3 часа. Летом и зимою он выходил на крыльцо и окатывался холодной водой. Засим он проделывал гимнастику и прыжки для согревания и разминания. После этого он будил крестьян в деревне и солдат в лагере, а засим непрерывно занимался делом. Это был человек небольшого роста, сухощавый, с продолговатым лицом, голубыми глазами, ласково и выразительно смотрящими, с горбатым, довольно крупным носом. Все движения этого человека были необыкновенно живы, крайне подвижны и довольно резки, почти всегда он ходил так быстро, что его походка имела вид бега, иногда он ходил вприпрыжку. На войне он ел что Бог послал и часто ту же пищу, что и солдаты. Дома же он нередко давал обеды, которые не отличались ни изысканностью кушаньев, ни особенною тонкостью вин. Обедал он в 8–9 часов. Суворов не любил ни много есть, ни много пить. Он любил собирать гостей, особенно по праздникам, любил игры, танцы и пение, причем и сам участвовал во всех этих забавах. Мужчины и дамы, именитые и простые гости были одинаково любезно приняты, держали себя просто и без принуждения, а потому у него всегда было весело и шумно. Он одинаково был мил и любезен с гостями и когда был молодым генералом, и когда стал генералиссимусом, только в последнее время он стал еще ласковее и отечески добрее: выходя обедать, он всех гостей целовал, а уходя, крестил и благословлял. Благословлял он часто и вне дома, и даже в публичных собраниях, и никто не видел ничего странного в этом благословении высокопоставленного патриарха, отечески доброго, детски наивного и не щадившего своей энергии за благо человечества. Чем старее и знаменитее он становился, тем почетнее его были гости, но это нисколько не препятствовало и не лишало одинаково милого и радушного приема и людей простых.
Суворов был одет весьма просто и незатейливо: летом в солдатской рубахе, а зимою в суконной, из солдатского сукна куртке. Сверху только в морозы набрасывал очень легонький, довольно ветхий плащ.
Суворов любил чай и нюхал табак. В карты почти не играл и держал карты преимущественно для гостей. Иногда он ходил на охоту за птицей, но особенно этому удовольствию не предавался. Зимою любил кататься на коньках, устраивал у себя ледяную гору и на масленой забавлялся на ней вместе с гостями. Любя птиц, он на зиму устраивал «птичью комнату». Это была большая комната, в которой в кадках стояли елки, сосенки, березки и проч. Получалось подобие рощицы. Сюда напускались синички, снегири, щеглята на всю зиму, весной же, преимущественно на Святой, их опять выпускали на волю. Суворов очень любил эту комнату, часто в ней бывал и даже нередко в ней обедал. Иногда летом обедал на берегу реки.
Суворов был очень религиозен и набожен. Часто ходил в церковь, лично читал и пел на клиросе и старался поддерживать религиозность в солдатах. В деревне путь в церковь вел через реку. В весеннее половодье, говорили, он переправлялся через реку в винокуренном чане, приспособленном в виде парома.
Суворов был женат, но с женою решительно не сошелся характером. Собственно говоря, Суворов даже не был способен к семейной жизни. Вся его душа, вся его жизнь, все помыслы и стремления были в армии, а семья для него была нечто побочное и добавочное. Жена для него не была друг, человек родной, близкий, необходимый, неразлучный, кому бы он отдавал себя весь, находил удовлетворение, поддержку и отраду. Все это уже было занято армией, а жена для него была только женщина. В дальнейшем в более грубой форме это отношение Суворова выразилось в следующей фразе: «Меня родил отец, и я должен родить, чтобы отблагодарить отца за рождение». Семейному разладу супругов много способствовали особенности характера супругов. Суворов был нрава нетерпеливого, горячего до вспышек бешенства, неуступчив, деспотичен и нетерпим. Самая сильная работа над собою повела только к тому, что он стал только сдержаннее. Нужно было быть ангелом, чтобы можно было вынести такого человека, а жена его вовсе не была таким ангелом. Прежде окончательного разрыва супруги много раз ссорились и мирились. Один раз было даже слишком торжественное примирение, вроде публичного покаяния. Суворов явился в церковь в солдатском мундире, жена в простеньком платьице. Муж и жена обливались слезами. Священник прочитал разрешительную молитву. Супруги помирились и сошлись. А все-таки дело кончилось разводом.
Такова была жизнь Суворова в обычное время.
Гораздо тяжелее и мрачнее она стала, когда Суворов подвергся опале.
Опала великого человека никогда не оканчивается только его удалением. При этом являются на сцену враги и делают все низкое, все гадкое, все подлое, что только может таиться в сокровищнице существа, известного под именем homo sapiens. Естественно, что все враги этих людей являются на сцену и мстят, мстят безжалостно, бесчестно и жестоко своему прежнему конкуренту. Выворачивается все прошлое, извращается, дополняется ложью, превращается в преступление, выдумываются новые лживые обстоятельства и все это льется, льется с наслаждением, с захлебыванием на голову опального. Благо, он молчит и не может поднять голоса. Люди индифферентные видят все это, присутствуют при этой оргии лжи, клеветы и опозоривания, – видят и молчат. Точнее, делают вид, что ничего не видят и не слышат… Подальше от греха… Не ровен час и сам влетишь в беду… Более малодушные присоединяются к клике и изрыгают ложь и хулу в унисон с клеветниками… Друзья и товарищи притихают, смиряются, прячутся, а то и до них доберутся… Не до защиты друга… Себе бы остаться живу… Да мимо идет чаша сия… Креатуры поваленного величия зачастую пристают к врагам и лают, лают нахально и еще громче, чем враги… Добрые дела наказуются… Такова практика жизни… Кто не видел такой картины в жизни высоких сфер?!. Стоит солнцу отвернуться от кого-либо, как все до одного из приближенных от него отвертываются, не видят, не замечают и лягают… Но вот солнце опять бросило свой луч милости, внимания и ласки, – и все вновь забегают, ластятся и льстят… О человек, человек, как еще много в тебе подлого!..