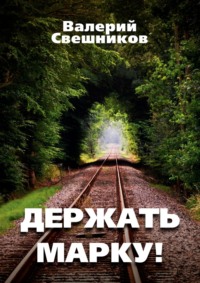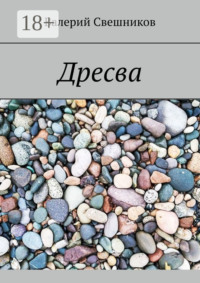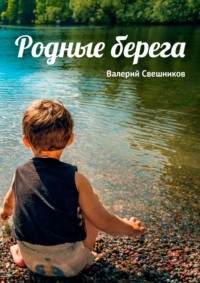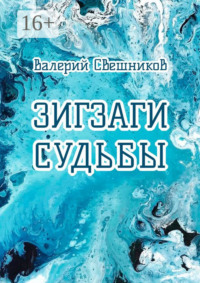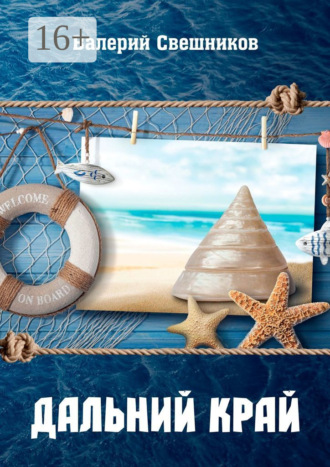
Полная версия
Дальний край
И наконец, мы нацелились на главную нашу задумку – намеревались пригласить Театр «На Таганке»» на гастроли во Владивосток на июль и август. Ведь известно, что конец лета и даже сентябрь во Владивостоке – это настоящий бархатный сезон – теплое море, золотой песок и ласковое солнце.
У нас имелись предварительные наметки об условиях гастролей – все-таки мы были членами «КИТа» – клуба интересных тем. Согласованы были и возможные площадки для выступлений артистов, а также вчерне намечена перспектива гастролей не только во Владивостоке, но и в других городах Приморского края.
Короче говоря, решили, что пойдем прямо в театр к Любимову, без всяких телефонных звонков и договоренностей. Пришли удачно – Юрий Петрович оказался на месте и более-менее свободен до начала репетиции.
Любимов принял нас в своем кабинете. Мы изложили наши предложения и их плюсы, само собой, поделились собственными впечатлениями от встречи с Дальним Востоком.
Рассказывая вкратце свои предложения, оба все время крутили головами. Все потому, что все четыре стены и даже сводчатый потолок кабинета были расписаны пожеланиями поклонников театра.
Юрий Петрович сделал небольшой перерыв, чтобы позвонить куда-то по телефону, а нам предложил осмотреть это эпистолярное наследие известных и знаменитых почитателей театра. Разрешил он и нам сделать свои записи.
Признаюсь честно, найти свободное место оказалось трудно, но мы нашли его и мелким почерком выписали свои пожелания театру и его артистам на кусочке потолка размером с половину почтовой открытки.
Известный режиссер просмотрел планы гастролей театра и согласился с нашими предложениями. Договорились с ним о дальнейшем общении по телефону, и обговорили время звонков, объяснив, что разница во времени в семь часов вносит свои коррективы.
Юрий Петрович в ответ рассказал анекдот о гостях-японцах, услышавших, как в соседней комнате офиса какой-то человек кричал: «Иркутск! Иркутск! Я вас не слышу! Иркутск!». Они спросили: «А по телефону вы не пробовали позвонить?»
Мы заверили, что связь с Дальним Востоком уже неплохая.
Все получилось в лучшем виде – связь была хорошей, и уже в конце июля «Таганка» появилась на гастролях во Владивостоке. Наш «КИТ» устроил вечер – встречу и было очень интересно в дружеской обстановке пообщаться со знаменитыми артистами.
А потом смотрели их спектакли интересные и запоминающиеся. Для большинства дальневосточников они стали открытием. О «Таганке», конечно, слышали, но многие их увидели впервые.
Артистов ублажали, как могли, и особенно, Высоцкого. Им устроили прогулку по морю с купанием и угощением морскими деликатесами.
Сейчас уже не помню имени артиста, к сожалению, погибшего в волнах во время купания при шторме. Но это, пожалуй, была единственная печальная сторона тех гастролей, к тому же, он сам пошел на неоправданный риск, плавая при сильном прибое.
И вот гастроли закончились. Таганцы улетали в Москву. С сожалением мы прощались с артистами, ведь со многими из них успели близко познакомиться и подружиться. А они тоже благодарили, в том числе и нас с Борисом, за то, что получились такие интересные гастроли. Хотя мы понимали, что нас, скорее всего, выручил Дальний Восток с его бесконечным обаянием и экзотикой.
Зима приходит внезапно
Вообще-то, в Приморье сезоны наступают совсем не так, как в европейской части страны. На меня такое свойство климата произвело неизгладимое впечатление. А случилось это в октябрьские праздники.
В красные дни календаря советские люди почти с удовольствием ходили на демонстрации, хотя не всегда понимали, да и не хотели задумываться о том, что, собственно говоря, они демонстрируют. Эта странность логики поступков современников заметна по тому, что многие праздники и до сих пор закодированы числительными – 8 марта, 1 Мая и т. д.
Хотя в те далекие брежневские времена уже были диссиденты, и даже политические заключенные, желающие что-то изменить в самом строе и в природе советского человека. Но большая часть народа их знать не знала, и совершенно не задумывалась о политической борьбе, ее смысле и ее жертвах. О событиях, связанных с оппозицией, можно было узнать только в самиздате или в передачах «Голоса Америки» и «Би-би-си».
Но для этого поиска тоже следовало прилагать целенаправленные усилия. Однако, большая часть «совков» с энтузиазмом избегала любой деятельности, связанной с какими-то нравственными решениями. Впрочем, и сейчас такая особенность преобладает в отношении понимания смысла жизни наших людей.
Но вернемся к осени во Владивостоке. Помню, мы шли в колонне Академии наук. Я восхищался местной погодой и невольно сравнивал ее с нашей северной.
В Ленинграде и, тем более, в моей Вологде, в начале ноября на демонстрацию люди идут в пальто и теплых куртках. А тут, на Дальнем Востоке, женщины даже в платья щеголяют, а мы – мужчины, шествуем в костюмах.
И вдруг мой новый приятель и коллега – Вячеслав С. спросил меня, как бы невзначай, в продолжение разговора: «А у тебя есть что-нибудь из зимней одежды, а то через недельку, глядишь, может и зима настать».
Для меня это предположение выглядело совершенно нелепым. Ну, никак не может зима наступить так быстро, если сейчас температура воздуха около 20 градусов. Но шедший тут же в колонне профессор Кусакин добавил: «У нас ведь муссонный климат. Зима придет вместе с тайфуном, а его давно что-то не было. Того гляди налетит».
Я послушался советов и после праздников пошел и купил все необходимое. И успел до наступления зимы за три дня!
Перед тайфуном, как всегда, что-то изменялось в атмосфере. У многих болела голова, а некоторые становились раздражительными. Нарастало какое-то напряжение, а уже через день объявили – надвигается тайфун.
Летом и осенью мы уже видели и ощутили на себе два или три тайфуна. Это, конечно, заметное событие для всех. Сильный ветер и ливень – это его главные черты. Сказать сильный ветер – это почти ничего не сказать о действительной силе, с какой на тебя обрушивается стихия.
То, что ветер ломает, вывертывает и даже вырывает из рук зонты – это уже дает какое-то представление о напоре ветра. Он, действительно, такой мощный, что иногда сбивает с ног.
Бывало так, что во время тайфуна наши сотрудницы не могли преодолеть ветер и пройти в столовую, поэтому они просили нас – если вы дойдете до столовой, то принесите, пожалуйста, хоть чего-нибудь поесть. Мы старательно боролись со встречным ветром, но и при попутном «ветерке» донести удавалось только что-либо хорошо запакованное в полиэтилен или в прочный контейнер.
После первого же тайфуна мы поняли, почему стены деревянных домов в окрестностях Владивостока покрыты рубероидом сверху донизу. Иначе ветер и ливень зальют дом за несколько минут.
Можно представить какова была сила и мощь ветра, если половина сотрудников во время тайфуна сидела по домам и занималась очень важным делом – они бегали от окна к окну и собирали воду, поступающую сквозь рамы. Потом с гордостью и с некоторым почтением к пришедшей стихии сообщали о количестве ведер воды, которые они собственными руками перетаскали в унитаз.
Между тем, в этот раз надвигался тайфун, после которого обещали наступление зимы. И вот какая-то мгла окупала город, быстро нарастал южный ветер. Он нес с океана много воды, но вместо дождя… вдруг скоро пошел сильнейший снег – мокрый и крупный. Быстро стало очень холодно, а потом пришло и понимание, что зима не за горами, а совсем рядом.
И действительно, за несколько часов наступила настоящая зима. На следующий день начал дуть холодный северный ветер, но тут же появилось яркое солнце! Погода как бы извинялась за такую промашку с тайфуном. Свежий снег так сиял на солнце, что всех потянуло покататься на лыжах.
А спустя неделю – другую, я с удивлением почувствовал, что даже посреди зимы, когда постоянно дует сильный и пронизывающий северный ветер, можно вдруг ощутить, хотя и слабое, но дыхание весны.
Происходило это, вроде бы, случайно. Но стоило лишь укрыться от этого пронизывающего северного ветра, как тут же ты понимал – начинает пригревать солнце, и весна близка.
Ведь недаром про упорные северные ветры в те далекие годы звучала песня со словами… «в окна ко мне ломится ветер северный умеренный до сильного». И еще дальневосточники говорили: «Широта у нас, как в Сочи – солнце греет, но не очень».
Но как хорошо, что всегда была возможность убедиться в скором и неизбежном приходе весны.
как мы «захватили» военно-морскую базу
Началась эта история, в конце зимы, когда мы с Борисом вернулись в институт после отпусков и командировок. Неожиданно наш активный коллега Вячеслав С. предложил создать экспедиционную станцию на месте почти заброшенной военно-морской базы «Витязь», что в Хасанском районе.
Этот замысел возник не случайно. Научная группа Вячеслава уже давно работала на экспедиционной станции неподалеку – в соседней бухте Троица, и дела у них шли неплохо. Но работать там удавалось только летом.
В то время, как в «Витязе», совсем рядом с бухтой Троица, имелись условия для круглогодичной работы. Это предложение выглядело соблазнительно, и захотелось, хотя бы взглянуть на эти благословенные места.
Наш коллега отличался напором и какой-то целенаправленной тщательностью во всех делах. Он предложил в ближайшее время съездить в «Витязь» на разведку. Мы, естественно, согласились осмотреть эти места и оценить возможности для создания там экспедиционной станции.
За неимением других машин, поехали на УАЗике с открытым кузовом. Зимой ехать в кузове не очень комфортно, но мы основательно утеплились и доехали быстро, без приключений.
«Витязь» сразу покорил своей красотой и хорошими возможностями для работы. В первую очередь, это большая и красивая бухта, закрытая от ветров. Вокруг нее на одном берегу стоят почти с десяток крепких каменных двухэтажных и одноэтажных домов. А на другом берегу бухты расположились небольшие домики местных жителей, уютно стоящие под горой, или сопкой, с названием Туманная.
Мы объехали по берегу всю бухту и добрались до мыса Шульца. Там увидели заброшенное двухэтажное каменное здание бывшей погранзаставы. На это здание поначалу и рассчитывал Вячеслав.
Оно еще крепкое на вид, и после хорошего ремонта могло бы вместить лаборатории и жилье для нас.
Потом мы поднялись на перевал между мысом Шульца и горой Туманной и остановились, как зачарованные. Оттуда открывался красивый вид на море. Хорошо был виден остров Фуругельма, а за ним в легкой дымке далекие гористые берега. Для меня стало неожиданностью то, что это уже горы Китая и Кореи.
Зашли на маяк. Это необычное сооружение и не только своим высоким маяком, а еще и теми домами, в которых живут маячные люди. Чувствовалось, что архитектор маяка не забыл свои французские корни. Дома, дворы, улочка между домами были копией какого-нибудь нормандского городка. Не хватало только католического храма. До сих пор жалею, что так и не собрался сфотографировать эту красоту.
Когда на обратном пути мы поднялись на перевал у мыса Шульца, то опять полюбовались морем. Оно было спокойно и пустынно.
Но тут наши спутники и более опытные коллеги, как-то насторожились и уставились на лодочку, что медленно двигалась вдали. До меня постепенно дошло, что же, собственно, вызвало столь пристальное внимание наших спутников.
Оказывается, все заключалось в том, что навигация малых судов зимой прекращается. А тут какой-то отчаянный мореход вдали от берега идет на веслах, сидя в кокпите моторной лодки. Его усилия казались тщетными, но все-таки бедолаге, наконец, удалось преодолеть сильный отжимной северный ветер, и скоро он оказался под прикрытием мыса Шульца.
Чем ближе этот мореход подгребал к нашему берегу, тем меньше его отгонял ветер. И вот он, наконец, причалил.
Бедный, он едва переводил дух. На руках его виднелись кровавые мозоли, чувствовалось, что парень натерпелся страху.
Оказалось, что он вышел на моторке из бухты Троица в Зарубино, в небольшой рыбацкий поселок, где хотел что-то купить в магазине. Но по дороге мотор заглох, и пришлось ему идти на веслах. Однако ветер все время относил незадачливого путешественника от берега.
Мы оказались на перевале вовремя. Помогли «мореходу» снять подвесной мотор и отвезли его на МЭС «Троица». Только потом пустились в обратный путь.
Во Владивосток мы вернулись в большом воодушевлении, но и с пониманием, что впереди предстоит суровая борьба за эту заброшенную военно-морскую базу, почти забытую богом и командованием. Пока там жила только «вохра», которая сторожила какие-то склады, в этом была вся «стратегическая ценность» этой базы.
После небольшой разведки, проведенной Вячеславом, грянула наступательная операция. Другими словами, началась борьба, она же торговля, вперемежку с дипломатическими переговорами, между военно-морским ведомством и нами – шпаками, как называют гражданских лиц бравые вояки.
Хорошо, что во главе этой кампании стоял Вячеслав С.. Без него не получилось бы столь быстрого и эффективного хода «военно-дипломатических действий». Наш коллега удивил всех осмотрительностью, быстротой и натиском.
А мы, между тем, показывали достоинства станции всевозможным, но нужным академикам. Это часто выпало на мою долю. Я доставлял дорогих (в буквальном смысле) гостей до вертолета, который перед этим надо было заказывать на ближнем аэродроме.
Потом мы летели до «Витязя», а там водили гостей по живописным окрестностям, показывая возможности и соблазняя преимуществами этого желанного объекта.
Естественно, самым трудным и ответственным оказался сам процесс передачи базы из ведомства славного Тихоокеанского краснознаменного военно-морского флота нашему Дальневосточному научному центру АН СССР.
Тут Вячеслав опять был к месту. У него оказалось столько нужных связей и знакомств, что дело с передачей базы стало быстро продвигаться к победному финалу. Зазвучали имена каких-то генералов, адмиралов и других сильных фигур из Флотских начальников.
Передача базы состоялась в Уссурийске, Я, к сожалению, не смог там быть, но знаю, что это событие не обошлось без ящика хорошего коньяка.
Пожалуй, самой показательной стала удивительная фраза одного из больших военачальников: «У нас, у военных, есть принцип: „Ни пяди земли родному государству“, но вы, вроде, парни хорошие, так и быть, берите».
Так исполнилась наша мечта – мы на законных основаниях получили право жить и работать в одном из самых привлекательных мест Приморья.
Реанимация с реорганизацией
«Витязь», после ухода военных, как ветеран войны, нуждался в поправке здоровья. Срочно требовалось ремонтировать дома, организовать столовую и избавиться от мерзости запустения. Позарез нужен был водопровод и, как воздух, требовалась надежная линия электропередачи.
Чтобы следить за ходом работ на экспедиционной станции, требовалось постоянно находиться там кому-то из сотрудников института. И тут как раз прилетел «с материка» мой друг Борис и стал тем необходимым «смотрящим», а потом даже начальником станции. У нас уже имелось несколько свободных квартир, в одной из которых Борис и разместился со своей новой семьей.
Дома для жилья, которые достались нам после передачи базы, оказались довольно прочными и более-менее теплыми. Так что даже зимой, там можно жить почти с комфортом. А ведь они сработаны не из кирпича, а из рваного местного камня.
Пожалуй, самым замечательным свойством домов – это великолепный вид из окон, открывающийся на бухту и гору Туманную. В бухту же иногда заходили корабли и красивые яхты. Такую красоту мы быстро оценили.
Скоро ожила столовая, и тут наш коллега Вячеслав еще раз показал свои организаторские способности, он нашел где-то отличных поваров. Однако, после запуска нашей столовой неожиданно обнаружилась ее «совковость» – поразительное сходство с бывшими подобными советскими «объектами общепита».
Открытие нашего заведения произошло зимой, но я в это время был в командировке в Ленинграде. Через месяц после возвращения я увидел результаты ремонта, и сразу понял, почему Вячеслав С. разглядел в ней признаки «пищеблока для совков».
Строители выполнили ЦУ начальника станции – Бориса. К сожалению, соответственно им, и проявились черты ведомственной столовки.
Дело в том, что в сталинские времена столовые крупных заводов и учреждений имели весьма примечательную черту – в них существовало особое помещение для начальствующего состава.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.