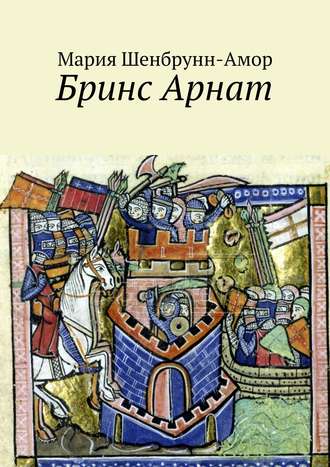
Полная версия
Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад
– Ибрагим, если вы приметесь проделывать дырочки в христианских головах, вам собственной не сносить, – оборвала Констанция лекаря, позабывшего, что он беседует с княгиней, не с цирюльником.
– Да… да, – спохватился ибн Хафез, – простите болтливость старика, милосерднейшая. Но особенно меня поразило убеждение этого Иегуды, что исполнится обещание Всевышнего и его соплеменники возродят свое владычество в Сионе. Хоть и яхуди, он все же производил впечатление человека образованного и мыслящего.
– Не убеждение, а заблуждение. Обещание уже исполнилось – Утремер и есть воссозданное царство Давида и Соломона.
Египетский лекарь пожевал губами:
– Тем не менее эта мечта полностью овладела шатким разумом несчастного. Бедняга сочинял стихи, полные любви и тоски по Сиону. Сравнивал прах Сиона с благовонным мирро, реки – с амброзией… Надо отдать ему должное, стихи были изящны и трогали душу: «Сердце мое на Востоке, я же на Западе сам…» Все переживал, что не исполнит свой обет и не доберется живым до Иерушалаима, так он называл Аль-Кудс.
Кто бы мог предположить, что это жестоковыйное племя способно на пылкую любовь к земле, давным-давно утерянной ими за собственные грехи? Иерусалим, второстепенный для христианина-венецианца, был все еще дорог сынам этого отверженного и обреченного народа! Наверное, Господь вложил в негодные сердца евреев и приспешников Магомета такую страсть к Земле Обетованной, дабы усовестить их примером добрых латинян и заставить верных сынов Церкви превзойти недостойные народы собственным рвением.
– Да какое значение имеют эти евреи?! – фыркнула Изабо. – Уж, верно, Иисус Христос – христианин не хуже нас, и не допустит, чтобы Святая Земля пала в руки неверных! А куда это паршивец Вивьен запропастился?
Валет появился, насвистывая и лукаво стреляя наглыми, масляными от самодовольства глазками. Констанция погладила растревоженную плаванием Капризу:
– Пусть эти евреи воочию узреют построенное нами Царство Давида, пусть убедятся, как они посрамлены и как торжествует истинная вера. Пока стоит земная твердь и кружится небесная сфера, не владеть им ни Землей Воплощения, ни Градом Страстей Христовых.
Дорога в Иерусалим, как ей Господом и положено, вела ввысь. Сквозь прозрачный хрусталь небес октябрьское солнце слепило, но уже не палило по-летнему. Тропинку затеняли сосны, рожковые деревья и дубы, а сухой осенний воздух благоухал смолой и полынью. Гнедая Каприза трясла гривой, взбираясь на очередной пригорок, и помахивала хвостом, спускаясь в заросшие ельником вади-овраги. Мечту о пешем паломничестве пришлось забросить: Иудейские горы – самая опасная часть пути. С холмов окрестности охраняют крепости Казаль де-Плен, Торон де-Шевалье и возведенный покойным патриархом Уильямом Малинским Шатель-Арнуль, но даже средь бела дня из-за нависающих над головами скал может раздаться дикий вопль бедуинов, за любым валуном или в придорожной пещере могли затаиться разбойники. Поэтому с флангов группу путешественников – княгиню Антиохии с ее свитой и присоединившихся к ним паломников из Тура – охраняли тамплиеры-сержанты на мощных боевых дестриэ, в кольчугах под черными туниками, с обнаженными мечами в руках. Командовал ими сенешаль Андре де Монбар. Чтобы поспевать за своими защитниками, паломники из всех сил погоняли старых мулов, упрямых ослов и не слушавшихся узды лошаденок. Привалы делали только на огражденных стоянках.
Позади осталась Яффа с домом Симона-кожевника, приютившего апостола Петра, с шумным, грязным, пестрым месивом людей и товаров на венецианском базаре, с укрепленной цитаделью тамплиеров, монастырями и соборами богатого армянского квартала. В первый день пересекли сжатые поля ячменя и сахарного тростника долины Рамлы. За полвека латинского владычества расцвело заброшенное ранее побережье: под защитой франков местные жители проложили дороги, навели мосты, починили древние акведуки, понастроили винодельни и маслобойни, на каждом ручье вздымали радугу лопасти водяных мельниц. Через тридцать три рынка Заморья непрерывной чередой брели груженные караваны из дальних стран, и гаваням не хватало причалов для торговых судов.
– Ибрагим, взгляните, как благоденствуют ваши единоверцы под нашей властью! В исламских землях атабеки и эмиры не перестают разорять земли друг друга, а у нас даже магометане наслаждаются миром и процветанием.
Но Ибрагиму легче мертвого воскресить, чем отдать должное христианам:
– Не все наслаждаются. Ибн Барзан, правитель Мадждаль Ябы, бросает своих феллахов в тюрьмы, вымогает четыре динара там, где полагается платить один, запрещает читать Коран по пятницам, требует, чтобы правоверные работали в священный день, и отрубает ступни ног тем, кто осмеливается перечить.
Правитель Мирабеля Бодуэн Ибелин, сын Барисана и потому прозванный арабами ибн Барзаном, действительно самонадеянный и высокомерный барон и, Бог ему судья, возможно, чрезмерно суров, но весьма огорчительно, что во всем плодоносящем саду Земли Воплощения Ибрагим заметил лишь одно червивое яблоко! Если бы Констанция всех нехристей по одному Ибрагиму мерила, она бы вообразила, что все они – люди самоотверженные и сострадательные! Но Левант последователи ислама завоевали с беспримерной жестокостью. Грануш пересказывала армянские предания, как тюрки-сельджуки при покорении Киликии и Сирии христиан, как овец, резали, с живых людей кожу сдирали, младенческие головки о камни крошили. А фатимидский халиф аль-Хаким даже усыпальницу Господа в Святом Граде разрушил.
– Мы не брезгуем перенимать ваши умения, мы переняли сохраненную вами мудрость древних, ваши знания в медицине, астрономии, географии, строительстве. Теперь христиане не хуже вас выделывают кожу, куют оружие, наши вилланы выращивают сахарный тростник, апельсины, арбузы и абрикосы, – перечисляла неоспоримые доводы княгиня. – А вы, чему вы научились у нас?
– Милосердная и справедливая властительница беседует со мной, вислогорбым верблюдом, с терпением, не заслуженным моей глупостью. Гордость, только ущемленная гордость не позволяет нам учиться у победивших нас кафиров, – уныло признался упрямец, уклончиво пряча взгляд.
Старик раздражал неподатливой покорностью. Басурманским феллахам в Утремере живется несравнимо лучше, чем их собратьям под сирийскими Зангидами и египетскими Фатимидами. А паломники, дивящиеся на глиняные дома, укрытые тенью пальм и плодовых деревьев, уверяли, что неверным под властью латинян живется даже лучше, чем добрым христианам в Европе. А уж в сравнении со зверствами оголтелых альмохадов в Иберии, франки и вовсе истые ангелы! Евреев, и тех безропотно терпят, – благодаренье Богу, этих-то в Заморье считанные единицы, – поскольку, что делать, гонители Сына Божьего оказались искусными умельцами в крашении шерсти и в стеклодувном деле. Да разве и сам Ибрагим не предпочел Антиохию Александрии?
Морщинистые щеки ибн Хафеза тряслись в лад поступи мула, нос сокрушенно клевал с каждым упреком, рука с разбегающимися по ней руслами вен терзала растрепанную бороду:
– Вы заслуженно презираете меня, поношенную ветошь. Мне пришлось покинуть возлюбленную свою Аль-Искандарию и поселиться в гостеприимной Антиохии, потому что скончался сын эмира, которого я лечил. Клянусь Аллахом, я сделал все, чтобы спасти мальчика, но зачастую медицина бессильна, а горе отца требовало отмщения. С тех пор, опасаясь его всепроникающего гнева, я скитаюсь среди иноземцев и иноверцев. Боюсь, мне суждено закончить свой земной путь на чужбине, вдали от библиотек и собраний ученых людей.
– О чем же тут сожалеть? Здесь вас не только не преследуют, но и сторицей оплачивают ваши умения.
– Ваша пресветлость совершенно справедливо укоряет своего раба в алчности. Виной всему моя неуемная страсть к учености. Мудрость и знания – это такие удивительные, чудесные, редкостные птицы, которые выживают только в золоченых клетках драгоценных манускриптов и в строках древних пергаментов, за которые приходится платить золотом. – Опять схватился за мочало бороды, как за якорь, способный вытащить из пучины любых сомнений. – Но с неимущих бедняков я ничего не взимаю.
– С неимущих даже я ничего не взимаю. У кого ничего нет, с того и взыскать-то нечего, – резонно заметила Констанция, чтобы врач не возомнил о себе чрезмерно.
Спереди послышались отчаянные женские вопли:
– Господи, спаси и помилуй! Иисусе, да явится воля твоя! Грешные, обреченные, покайтесь!
Ехавшая рядом Изабо фыркнула:
– Опять наша юродивая зашлась.
Это провидице Марго снова явился Спаситель. Паж Вивьен хихикнул:
– Полюбуюсь, пожалуй.
Сердце у Вивьена холодное, не ведающее сострадания, а может, юноша просто слишком молод и глуп, если может забавляться зрелищем одержимой старухи. Впрочем, пилигримы из Тура тоже неуважительно относились к благочестивой Марго. На сей раз ясновидящая разошлась не на шутку: распростерлась в дорожной пыли, застопорив продвижение всего отряда, хлестала себя по пергаментным щекам, рвала всклокоченные седые пряди и истошно вопила на все холмы Иудеи. Увы, за время совместного странствия паломники привыкли к подобным представлениям, зачерствели сердцами и считали несчастную – и это мнение не скрывали – не столько благословенной праведницей, сколько наказанием Божьим.
Вот и теперь никто из попутчиков не наклонился к ней, ни одна сострадательная душа не подала фляги с водой, ни единый жалостливый человек не придержал ее ослика. Напротив, зловредный Вивьен еще и шуганул глупую скотину, ускакавшую в густые придорожные заросли ядовитой клещевины. Торопившиеся к Господу люди с отвращением наблюдали за припадочной и обменивались раздраженными замечаниями:
– Ну вот, опять полоумная за свое принялась! Сколько можно! Еще неизвестно, кто ее так корчит! Шарлатанка бесстыжая! Может, это и вовсе бес в ней.
Констанция послала к страстотерпице Ибрагима, но едва магометанин приблизился к Марго, та начала задыхаться и биться в судорогах. Ибн Хафез струсил, отошел. Опасно мусульманину иметь дело с поселившимся в латинянке джинном. Постепенно вопли перешли в неразборчивые стенания, бедняжка угомонилась, сержант-тамплиер выловил ей ослика, и нетерпеливые пилигримы, продолжая проклинать рехнувшуюся бабку, возобновили путь туда, где Спаситель принял смертные муки за грешных и слабых. Изабо с обидой заметила:
– Со мной Иисус Христос почему-то не беседует.
Констанция то же самое подумала, но, как всегда, стоило мадам де Бретолио высказать их общую мысль вслух, тут же суждение оказывалось нелепым.
– Он даже со мной не беседует, с тобой-то Ему с какой стати?
– Мне есть, о чем спросить Его, – ответила та, и Констанции словно шип в грудь вонзился: скончавшиеся младенцы Изабо, боже!
– Святая или больная эта Марго, а лучшего пробного камня для милосердия ближних не найти, – хихикнул Вивьен. – Была бы их воля, бесноватая давно вкусила бы истинного мученичества!
Сплетник с нескрываемым удовольствием пересказал княгине жалобы паломников. Еще в Туре странница сообщила окружающим, что слышит райскую музыку и ей является Иисус Христос, и подробно излагала дарованные ей видения. Эту милость небес, оказанную почему-то невежественной, грубой и простой женщине, богомольцы восприняли с вполне понятной обидой. Не то чтобы они были безжалостными и злыми людьми. Как раз наоборот! Намного достойнее и уважаемее этой тронутой деревенщины Марго, но с ними Спаситель мира почему-то не заговаривал, хоть падре и Господь ведали, что каждый из них – честный бюргер славного города Тура и примерный христианин. Мало того, блаженная молилась с такими криками и стенаниями, что невольно возникало сомнение – а не Сатана ли овладел ею? С какой бы стати поправший смерть Сын Божий снизошел до косматой, вонючей и вредной старушенции, которой брезговали все почтенные люди?
Но мало того, вскоре алчущая святости припадочная принялась искоренять в своих попутчиках их слабости и пороки и неотступно требовать от окружающих покаяния и исправления. Тут уж даже самые кроткие возненавидели старую ведьму.
Первый раз пилигримы пробовали избавиться от блажной в Орлеане: сговорившись, ранним утром удрали с постоялого двора, но к ночи карга настигла их Господним возмездием. В предгорьях Альп сердца паломников окончательно ожесточились, и они выгнали кликушу взашей, но благодаря нанятому проводнику и помощи нечистой силы неукротимая Марго умудрилась, неведомо какими лишениями и усилиями, перебраться через перевал Мон-Сени и, к отчаянию путешественников, нагнала их в Турине. В Венеции озлобленные французы, изнемогшие от ее нескончаемых видений и нестерпимого нрава, намеренно упустили несколько кораблей, дожидаясь отплытия юродивой. Но не так-то просто оказалось всеми брошенной, слабой и полоумной собеседнице Агнца Божьего разжиться скарбом, необходимым для дальнего плавания и раздобыть себе местечко на борту. Наконец Марго все же выклянчила уголок на подходящем суденышке. Изнывавшие богомольцы вознесли благодарственные молитвы и поспешно зафрахтовали другой корабль. Пусть плывет себе хоть со всем ангельским чином, главное, чтоб без них.
Однако едва пилигримы обустроились, как из очередной беседы с Христом Марго достоверно узнала, что их галера непременно затонет. Ну что оставалось беззащитным перед морской стихией путникам?! Скрежеща зубами и проклиная навязанную Провидением ясновидящую, путешественники, сопровождаемые сердечными напутствиями покинутого капитана, перетащили свои матрасы и клетки с курами на корабль ненавистной духовидицы.
– Долгое плавание со старой каргой в тесном трюме любви к ней не прибавило, – покатывался от смеха Вивьен.
Констанция сама с трудом удерживалась от улыбки, но все же заступилась за бедняжку:
– Несчастная за свое благочестие терпит.
Изабо возмутилась:
– Не просто терпит, а намеренно алчет страданий! Святоша надеется купить себе ими Царствие Небесное!
В том, что никакая Марго не провидица, а злобная притворщица, мадам де Бретолио убедилась, когда та напрямик высказала ей свое и Иисуса Христа мнение о женщинах, которые даже на богомолье выглядят блудницами вавилонскими. Тут, конечно, Марго судила суровее Исайи и Иеремии, но Изабо и впрямь, даже в темном плаще и под капюшоном, умудрялась вызывать у мужчин греховные мысли. Что-то в ней было неотразимое для мужского сладострастия, Констанции оставалось только жалеть подругу.
– Не старушенция мученица, а те, кому приходится рядом с ней ехать, – скривил хорошенькую мордашку Вивьен.
– Мы терпим, а в праведницы она лезет! – поддакнула Изабо.
Действительно, Марго носила власяницу и не мылась. Возможно, так она больше нравилась ее создателю, но остальным приходилось туго. Корабль паломников, как назло, долго мотало по осеннему морю, и с утрени до комплетория кликуша неутомимо обличала пороки соседей по трюму и расписывала предстоящие им загробные кары. К концу пути эти добрые люди, предпринявшие ради спасения своей души тяжкое, дорогостоящее и опасное путешествие в Град Небесный, безнадежно погрязли в ненависти к безупречной праведнице.
Но гаже всех вел себя Вивьен. Улучив момент, подбирался к ослику Марго и, напирая конем на скотинку, сталкивал его с узкой тропинки. Наездница вцеплялась в шею животного и визгливо ругалась, а проказник гоготал во все горло. Один раз старуха таки полетела кубарем в канаву. Довольный паж с невинным видом проехал мимо недвижно валявшейся в пыли женщины, и все кающиеся невозмутимо протрусили вслед за ним. Только молоденький сержант-тамплиер подоспел к упавшей быстрее Констанции. Бедняжка оказалась цела, хоть Бог ее знает, в чем там душа держалась: сквозь растрепанные жидкие космы просвечивала серая кожа головы, морщинистую шею изранила грубая власяница, босые ноги в кровь стерлись о колючие ослиные бока. На сей раз Марго уже не жаловалась и не ругалась, только плакала, утирая злые слезы трясущимися, тощими, как мощи, руками. Констанцию пронзила невыносимая жалость. Но старуха оказалась неисправимой упрямицей: едва сержант взгромоздил ее обратно на ослика, как Марго вновь разразилась угрозами и проклятиями.
– Еще раз привяжешься к святой женщине, пойдешь пешком обратно в Яффу, так и знай, – припугнула Констанция Вивьена.
– Ничего себе святая! Святые разве так сквернословят? – возмутился негодник.
Изабо передернула плечами:
– Это она от страха и бессилия бесится. Чем еще такой былинке защититься? От обиды на людей и возомнила, что с ней Иисус беседует. Без этого кто бы на нее вообще внимание обратил?
– Хвала Господу, что она бессильна, не то нам всем бы круто пришлось, – обиженно огрызнулся валет.
Констанция не знала, кому верить: люди так презирали и обижали Марго, что Христос вполне мог пожалеть и утешить блажную. Княгиня даже попросила провидицу замолвить за нее доброе слово перед заступником рода человеческого на тот случай, если Господь все еще вменяет ей в вину гибель Пуатье и провал крестового похода Людовика VII. Грануш и Изабо отмахивались от ее покаяний, да и отец Мартин, и сам его высокопреосвященство единогласно уверяли, что все грехи княгини давно замолены и отпущены, но хотелось бы услышать подтверждения прямиком от собеседницы Вседержителя. Ведь даже патриарху Лиможскому Спаситель не являлся, не говоря уж о Констанции, хотя она была не только страждущей, крайне нуждавшейся в Его попечении, но и властительницей Антиохии.
С трепетом ждала ответа благочестивой женщины, в глубине души не сомневаясь в подтверждении небесного милосердия: ведь кто, как не Констанция, защищал ясновидящую от поганца Вивьена?! Старуха долго жевала впавшим ртом, словно слова утешения предварительно приходилось смягчить, наконец выплюнула:
– Искала бы ты, княгиня, себе прощения, так не за женихом бы к королевскому двору мчалась, а в монастырь бы постриглась.
Несуразные слова неблагодарной Марго вонзились в Констанцию пригоршней колкого щебня. Она выпрямилась в седле:
– Что ты знаешь об обязанностях и предназначении властительницы Антиохии?! Это тебе всего-то и печали, что о покаянии заботиться, а на мне – долг правительницы. Бог избрал мне мое место. Он мне уделом не монашеский затвор предоставил, а трон Антиохии, и у меня нет права скинуть эту ношу. Я поклялась об Утремере заботиться, спасать от сарацин Землю Воплощения Христова, а не литании распевать! О нас, тех, кто защищает Его Гроб, Его Святую Землю, Всевышний сам молится!
Дернула поводьями так, что Каприза всхрапнула, но от Марго-репейника не отцепишься, старуха босыми пятками пинала брюхо ослика и неотвязно шипела сзади:
– Думаешь, Господь тебе за твои заботы обязан? Воображаешь себя сторожем на башнях его? А сама кого задумала посадить на престол града апостола Петра, святого Игнатия и святого Андрея? В женихи тебе жестокий, неразумный и неистовый!
Констанция испугалась. Старуха, конечно, умалишенная, но вдруг она все-таки видит будущее? Обычным людям откровений не бывает, именно юродивые и пророчат истину. Изабо вклинилась на своей лошадке между княгиней и Марго:
– Не обращайте внимания, ваша светлость. Полоумная считает, один Иисус Христос женщинам в женихи годен.
Нет, Христос в князья Антиохии никак не годился. И если княгиня задумает снова выйти замуж, она выберет только самого достойного претендента, способного защитить ее княжество и весь Утремер. Достаточно она совершила тяжких и неисправимых ошибок. Твердое решение успокоило смятенную душу, но больше Констанция не просила полоумную бабку посредничать между собой и небесами.
Копыта Капризы мерно ступали по выбитой в известняке тропинке, скрипела подпруга, свистели пичуги в ветвях смоковниц и сикомор.
– Изабо, а ведь Дева Мария с младенцем этим же путем ехала, эти же холмы рассматривала, даже ослик ее о те же камни спотыкался!
– Да, – Изабо растроганно вздохнула всей грудью. – Навоз здесь, и тот свежий.
Впереди бок о бок скакали Вивьен и сержант тамплиеров, тот, который заботился о Марго. Сержант запальчиво объяснял пажу звонким мальчишеским голосом:
– Бедный рыцарь Христа и Соломонова Храма не отступается от боя, если врагов меньше, чем трое на одного!
Вивьен не решился бы даже с одиноким вилланом сразиться, но болтать – не драться, пустомеля охотно принялся поддевать юношу:
– А я в монахи не гожусь. Мне и бедность с послушанием плохо даются, а уж с целомудрием я точно не в ладах!
Констанция смутилась и разозлилась. Она-то считала шалопая милым, невинным и безобидным забиякой, робко и нежно поклоняющимся ей, своей госпоже! Ерошила ему волосы, по щеке трепала! Сержанту, кажется, развязность собеседника тоже не понравилась, он сухо ответил:
– Вы, светское рыцарство, погрязли в пороках.
– В каких это пороках мы погрязли? – умолчал лгун бесстыжий, что в рыцари годился еще меньше, чем в монахи. Но в пороках погряз, это верно. В Антиохии паршивец слезно жаловался княгине на безденежье, упросил госпожу взять на себя его путевые расходы, а теперь на его бедре позвякивал кошель-омоньер, неотличимый от того, из которого платил таможеннику кордовский еврей. – Это вы, тамплиеры, дали обет нищеты, а сами накопили несметные богатства и не признаете над собой ни власти короля, ни архиепископов! Всем известно, что ваш орден зазывает в свои ряды убийц и даже отлученных от церкви грешников!
Сержант отмалчивался, ничего нового в этих обвинениях не было, но его молчание только раззадорило ехидного Вивьена:
– А признайся, почему вам, монахам, велено спать одетыми, обутыми и с поясом, а в дормиториях до утра должны гореть светильники? Что, в темноте дьявол сильнее, а?
Тамплиер не выдержал:
– Я проучу тебя, щенок, как оскорблять храмовников!
Ударом кулака сбросил валета с седла на землю, сам спрыгнул с коня и, вытащив меч из ножен, двинулся на пажа. Вивьен завизжал, метнулся за чужие спины, сержант погнался за ним, размахивая оружием. Процессия застопорилась, все с криками бросились врассыпную.
Разметая толпу, в облаке белой мантии с красными крестами к драчунам несся на огромном дестриэ сенешаль ордена тамплиеров Андре де Монбар. Рявкнул:
– Симон Ришар! – Сержант, словно очнувшись, тут же замер. – Брось меч, ты недостоин его!
Ришар беспрекословно подчинился. Монбар сдернул с луки седла веревку, завязал на ее конце петлю и двинул своего скакуна на пятящегося Симона.
– Остановитесь! Прошу вас, остановитесь! – Грозный вид рыцаря испугал Констанцию. – Сенешаль, сержант не виноват, клянусь вам. Я своими ушами слышала, как мой валет подначивал его. Сержант только вступился за честь ордена!
Тамплиер даже не глянул на женщину, не полагалось ему. Нагнулся с седла к Симону, подхватил за ворот и поволок покорного, как тряпичная кукла, юношу к раскидистому дубу. Паломники растерянно взирали на готовящуюся казнь, братья ордена оставались невозмутимыми, одна лишь Изабо пронзительно визжала, но даже это не останавливало сенешаля. Констанция беспомощно огляделась:
– Вивьен, а ну признавайся, как было!
Бессовестный трус только жалко сморщился и спрятался в толпе. А Андре де Монбар уже столкнул беднягу с петлей на шее в дорожную пыль и перекинул веревку через огромную ветвь. Не раздумывая, Констанция пришпорила Капризу и вклинилась между палачом и жертвой. Дестриэ храмовника захрапел, попятился перед гарцевавшей кобылой, но с каждым его шагом веревка натягивалась все туже, приподнимая над землей барахтающегося, вцепившегося обеими руками в петлю, хрипящего Симона. Еще пара шагов – и юноша повиснет в воздухе. От воплей Изабо застлало уши.
Послышался дробный конский топот, толпа расступилась как Чермное море, и из нее, сотрясая землю, вылетел грузный рыцарь. Он выхватил меч и одним махом перерубил натянутую веревку. Симон рухнул на землю, покатился по склону, поспешно уполз в густые заросли мирта и лавра. Возмущенный сенешаль крякнул, занес меч, но перед ним еще мешкала Каприза со своей растерянной, испуганной всадницей. Отъехать Констанция уже не успевала, она только невольно прикрылась руками от ужасного лезвия сенешаля. Меч в последний миг замер над ее головой, описал полукруг и медленно, неохотно вернулся в ножны на бедре хозяина. Тамплиер с презрительной усмешкой оглядел заступницу, повернул жеребца и, не обращая больше ни на кого внимания, вернулся на свое место в арьергарде процессии. Констанция лепетала вслед какие-то оправдания, но Андре де Монбар даже не обернулся.
Оцепеневшие зеваки с облегчением затараторили, принялись пересказывать друг другу только что случившееся. Истошно запричитала Марго, не любившая терять всеобщее внимание. Изабо приосанилась, наградила неведомого смелого спасителя милостивой улыбкой:
– Шевалье, вы восхитили нас!
Рыцарь поспешно сорвал шлем с подшлемником, на солнце засверкала бритая башка д’Огиля:
– Ваша светлость, клянусь на завязках своей обуви, ради вас и мадам де Бретолио Бартоломео дракону шею перерубит, не только пеньковую веревку! Ха-ха!
Изабо сморщилась, словно кислого молока хлебнула. Забытый всеми Симон вскарабкался на своего коня и, опустив голову, вернулся в ряды сержантов. А Вивьен, негодяй, присмирел ненадолго: не прошло и часа, и до Констанции опять донесся его самодовольный дискант, вновь самозабвенно плетущий хвастливые враки.


