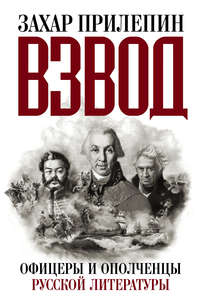Полная версия
Грех (сборник)
Мы выбредали с работы, уже чувствуя ласковый мандраж скорого алкогольного опьянения, и оттого начинали разговаривать громче, радуясь пустякам.
Почти всегда говорил он, я только вставлял реплики, не больше десятка слов подряд; и если сказанное мной смешило его – отчего-то радовался. Я не просил многого от нашего приятельства, я привык довольствоваться тем, что есть.
Приближаясь к ларьку, Алёша начинал разговаривать тише: словно боялся, что его застанут за покупкой водки. Если я, по примеру Алёши, не унимался у ларька, продолжая дурить, он пшикал на меня. Я замолкал, веселясь внутренне. У меня есть странная привычка иногда слушаться хороших, добрых, слабых людей.
Мы скидывались на покупку, чаще всего поровну, – однако Алёша ни разу не доверил мне что-то купить, отбирал купюру и оттеснял от окошка ларька с таким видом, что, если он не сделает всё сам, я непременно спутаюсь и приобрету коробку леденцов.
Он брал бутылку спиртного, густо-жёлтый пузырь лимонада и два пластиковых стаканчика. Никакой закуски Алёша не признавал. Впоследствии – так думал он – оставшиеся деньги наверняка пригодятся, когда всё будет выпито и этого, конечно же, покажется мало.
Мы уходили в тихий, запущенный дворик. В уголке дворика стояла лавочка – по правую руку от неё кривился барачный, старый, жёлтый дом, по левую – ряд вечно сырых, прогнивших сараев, куда мы, вконец упившись, ходили сливать мочу.
Подходя к лавочке, он говорил с облегчением: «Ну вот…» В том смысле – что всё получилось, несмотря на моё нелепое шумное поведение и надоедливые советы купить хоть чего-нибудь пожевать.
Водку он всегда убирал в свою сумку, разливая, когда считал нужным.
Мы сбрасывали с лавочки сор, стелили себе газетки, о чём-то негромко острили. Шутки уже звучали в ином регистре: притихшая гортань словно приберегала себя для скорого ожога и не бурлила шумно и весело.
Закуривали, некоторое время сидели молча, разглядывая дым.
Потом Алёша разливал водку, я сидел, склонив голову, наблюдая за мягким течением светлой жидкости.
После первой рюмки он начинал кашлять и кашлял долго, с видом необыкновенного отвращения. Я жевал черенок опавшего листка, незлобно ругая себя за то, что не отобрал у Алёши немного денег купить мне еды.
Иногда из жёлтого, окривевшего на каждое окно здания выходили молодые люди, сутулые, с глупыми лицами, в трико, оттянутых на коленях, в шлёпанцах; громко разговаривали, неустанно матерясь и харкая на землю.
Я кривился и смотрел на них неотрывно.
– Только без эксцессов, Захар, я прошу тебя. Не надо никаких эксцессов, – сразу говорил Алёша, косясь в сторону, словно и взглядом не желал зацепить отвратное юношество.
– Не буду, не буду, – смеялся я.
В пьяном виде я имею обыкновение задираться, грубить и устраивать всякие глупости. Но в каком бы я ни был непотребном состоянии, я бы никогда не стал вмешивать в свои чудачества этого грузного, неповоротливого, с наверняка больной печенью человека. Ни подраться, ни убежать – что ж ему, умирать на месте за мою дурость?
– Не буду, – повторял я честно.
Молодые люди кричали что-то своим девушкам, которые появлялись то в одном, то в другом окне на втором или третьем этаже. Девушки прижимались лицами к стеклу; на их лицах была странная смесь интереса и презрения. Покривившись, ответив что-то неразборчиво, девушки уходили в глубь своих тошных квартир с обилием железной посуды на кухнях. Иногда, вслед за девушками, в окне на мгновенье появлялись раздражённые лица их матерей.
Наконец молодые люди разбредались, унося пузыри на коленях и мерзкое эхо поганого, неумного мата.
После второй рюмки Алёша веселел и пил всё легче, по-прежнему неприязненно жмурясь, но уже не кашляя.
Понемногу разогревшись, порозовев своим ужасным лицом, он начинал говорить. Мир, казалось, открывался ему наново, детский и удивительный. В любом монологе Алёши неизменно присутствовал лирический герой – он сам, спокойный, незлобный, добрый, независтливый человек, которого стоит нежно любить. Чего бы не любить Алёшу, если он такой трогательный, мягкий и весёлый? – так думалось мне.
Иногда я по забывчивости пытался рассказать какую-то историю из своей жизни, о своей работе в кабаке, о том, что там происходили дикие случаи и при этом я ни разу не был ни избит, ни унижен, но Алёша сразу начинал нетерпеливо ёрзать и в конце концов перебивал меня, не дослушав.
Покурив ещё раз, оба донельзя довольные и разнеженные, мы вновь направлялись к ларьку, с сомнением оглядываясь на лавочку: нам не хотелось, чтобы её кто-нибудь занял.
У нас была традиция: мы неизменно посещали книжный магазин после первой, но никогда ничего не покупали. Алёша приобретал книги только в трезвом виде, после зарплаты, а я брал их в библиотеке.
Мы просто гуляли по магазину, как по музею. Трогали корешки, открывали первые страницы, разглядывали лица авторов.
– Тебе нравится Хэми? – спрашивал я, поглаживая красивые синие томики.
– Быстро устаёшь от его героя, навязчиво сильного парня. Пивная стойка, боксёрская стойка. Тигры, быки. Тигриные повадки, бычьи яйца…
Я иронично оглядывал Алёшину фигуру и ничего не говорил. Он не замечал моей иронии. Мне так казалось, что не замечал.
Сам Алёша вот уже пятый год писал роман под хорошим, но отчего-то устаревшим названием «Морж и плотник». Никогда не смогу объяснить, откуда я это знал, что устаревшим.
Однажды я попросил у Алёши почитать первые написанные главы, и он не отказал мне. В романе действовал сам Алёша, переименованный в Серёжу. В течение нескольких страниц Серёжа страдал от глупости мира: чистя картошку на кухне (мне понравились «накрахмаленные ножи») и даже сидя на унитазе – рядом, на стене, как флюс, висел на гвозде таз; флюс мне тоже понравился, но меньше.
Я сказал Алёше про ножи и таз. Он скривился. Но выдержав малую паузу в несколько часов, Алёша неожиданно поинтересовался недовольным голосом:
– Ты ведь пишешь что-то. И тебя даже публикуют? Зачем тебе это надо, непонятно… Может, дашь мне почитать свои тексты?
На другой день утром он вернул мне листки и пробурчал, глядя в сторону:
– Знаешь, мне не понравилось. Но ты не огорчайся, я ещё буду читать.
Я засмеялся от всей души. Мы уселись в маршрутку, и я старался как-то развеселить Алёшу, словно был перед ним виноват.
Стояло дурное и потное лето, изнемогающее само от себя. В салоне пахло бензином, и все раскрытые окна и люки не спасали от духоты. Мы проезжали мост, еле двигаясь в огромной, издёрганной пробке. Внизу протекала река, вид у неё был такой, словно её залили маслом и бензином.
Маршрутка тряслась, забитая сверх предела; люди со страдающими лицами висели на поручнях. Моему тяжёлому и насквозь сырому Алёше, сдавленному со всех сторон, было особенно дурно.
У водителя громко играло и сипло пело в магнитофоне. Он явно желал приобщить весь салон к угрюмо любимой им пафосной блатоте.
Одуревая от жары, от духоты, от чужих тел, но более всего от мерзости, доносящейся из динамиков водителя, я, прикрыв глаза, представлял, как бью исполнителя хорошей, тяжелой ножкой от стула по голове.
Пробка постоянно стопорилась. Машины сигналили зло и надрывно.
Алёша тупо смотрел куда-то поверх моей головы. По лицу его непрерывно струился пот. Было видно, что он тоже слышит исполняемое и его тошнит. Алёша пожевал губами и раздельно, почти по слогам, сказал:
– Теперь я знаю, как выглядит ад для Моцарта.
Не вынеся пути, мы вышли задолго до нашей работы и решили выпить пива. Друг мой отдувался и закатывал глаза, постепенно оживая. Пиво было ледяное.
– Алёша, какой ты хороший! – сказал я, любуясь им.
Он не подал виду, что очень доволен моими словами.
– А давай, милое моё дружище, не пойдём на работу? – предложил Алёша. – Давай соврём что-нибудь?
Мы, позвонив в офис, соврали, и не пошли трудиться, и сидели в тени, заливаясь пивом.
Потом прогуливались, едва ли не под ручку, точно зная, но не говоря об этом вслух, что к вечеру упьёмся до безобразия.
– А вот и наш книжный! – сказал Алёша лирично. – Пойдём помянем те книги, которые мы могли бы купить и прочесть.
Мы снова бродили меж книжных рядов, задевая красивые обложки и касаясь корешков книг, издающих, я помню это всегда, терпкий запах.
– Гайто, великолепный Гайто… Взгляни, Алёша! Ты читал Гайто?
– Да, – скривился Алёша. – Я читал.
– И что? – вскинул я брови, предчувствуя что-то.
– Неплохой автор. Но эти его неинтересные, непонятно к чему упоминаемые забавы на турнике… этот его озабоченный исключительно своим мужеством герой, при том, что он, казалось бы, решает метафизические проблемы… один и тот же тип из романа в роман, незаметно играющий трицепсами и всегда знающий, как сломать палец человеку… Тайная эстетика насилия. Помнишь, как он зачарованно смотрит на избиение сутенера?
– Алёша, прекрати, ты с ума сошёл, – оборвал я его и вышел из магазина, непонятно на что разозлившийся.
Товарищ мой вышел следом, не глядя на меня. Он был настроен пить водку и зорко оглядывал ларёк с таким видом, словно ларёк мог уйти.
– А русский американец, ловивший бабочек? Его книги? – спросил я спустя час.
– Странно, что ты знаешь литературу, – сказал Алёша вместо ответа. – Тебе больше пристало бы… метать ножи… или копья. И потом брить ими свою голову. Тупыми остриями.
– Особенно неприятен у него русский период, – ответил минуту спустя Алёша, доливая остатки водки. – Впрочем, американский период, кроме романа о маленькой девочке, я не читал… А многие русские романы отвратны именно из-за повествователя. Спортивный сноб, презирающий всех… – тут Алёша поискал слово и, не найдя, добавил: –…всех остальных…
– Такой же, как ты, – вдруг добавил Алёша совершенно трезвым голосом и сразу заговорил о другом.
Он сидел на лавочке, огромный и грузный. Бока его белого, разжиревшего тела распирали рубаху. Я много курил и смотрел на Алёшу внимательно, иногда забывая слушать.
Отчего-то я вспомнил давнюю Алёшину историю про его отца. Он был инвалидом, не выходил из квартиры, лежал в кровати уже много лет. Алёша никогда не навещал родителя, хотя жил неподалёку. За инвалидом – своим бывшим мужем, с которым давно развелась, ухаживала Алёшина мать.
– Последний раз я его видел в двенадцать, кажется, лет, – сказал Алёша. – Или в одиннадцать.
Было совсем непонятно: стыдится он этого или нет. Я немного подумал тогда про Алёшу, его слова и его отца и ничего не решил. Я вообще не люблю размышлять на подобные темы.
Вскоре Алёшу выгнали с работы, потому что он вовсе отвык приходить туда и делать хоть что-то в срок; впрочем, спустя какое-то время та же участь постигла и меня.
Мы долго не виделись с Алёшей. Казалось, он за что-то всерьёз на меня обижен, но мне не было никакого дела до его обид.
Из представительства легиона мне так и не позвонили.
Я не включал в комнате свет и, катая голой, с ледяными пальцами, ногой чёрную гантель, смотрел в окно, мечтая покурить. Денег на сигареты не было.
Появилось странное, мало чем объяснимое ощущение, что мир, который так твёрдо лежал подо мной, начинает странно плыть, как бывает при головокружении и тошноте.
Против обыкновения, я не сдержался и однажды сам заглянул к соседке, чей номер телефона я оставил в представительстве при собеседовании. Спросил: «Не искали меня?»
В тот раз меня не искали, но через пару дней соседка постучала в мою дверь: «Тебя… Звонят!»
Босиком я перебежал через лестничную площадку, схватил трубку.
– Ну что, всё работаешь? Такие придурки, как ты, нигде не тонут, – услышал я голос Алёши. Он был безусловно пьян. – Не берут тебя в твой… как его? Пансион… Легион… Соскучился по мужской работе? Башку хочется кому-то отстрелить, да? – Алёша старательно захохотал в трубку. – Лирик-людоед… Ты, ты, о тебе говорю… Людоед и лирик. Думаешь, так и будет всегда?..
– Откуда у тебя этот телефон? – спросил я, отвернувшись к стене и сразу увидев своё раздосадованное отражение в зеркале, которое висело за дверью, рядом с телефоном.
– Разве этот вопрос должен быть первым? – отозвался Алёша. – Может быть, ты поинтересуешься, как я себя чувствую? Как я кормлю свою семью, свою дочь…
– Мне нет дела до твоей дочери, – ответил я.
– Конечно, тебе есть дело только до своего отражения в зеркале.
Я положил трубку, извинился перед соседкой, вернулся в свою комнату. Подошёл к кровати и наугад пнул коробку с письмами – попал. Бумаги с шумом рассыпались, несколько листов вылетело из-под кровати и с мягким шелестом осело на пол. Ковра на полу не было: просто крашеные доски, меж которых у меня иногда закатывались монеты, когда я снимал брюки и складывал их. Вчера вечером я бессмысленно шевелил в щели железной линейкой, оставшейся от предыдущих жильцов, и едва удержался от соблазна взломать одну доску. Там, кажется, была монетка с цифрой 5. Пачка корейских макарон. Даже две пачки, если брать те, что дешевле.
Впервые за последние годы я был взбешён.
Накинув лёгкую куртку, в кармане которой вчера позвякивало несколько монет, если точно – то две, я пошёл купить хлеба. На двери маленького, тихого магазинчика висела надпись: «Срочно требуется грузчик».
В следующий вечер я вышел на работу.
Грузить хлеб было приятно. Трижды за ночь в железные створки окна раздавался стук. «Кто?» – должен был спрашивать я, но никогда не спрашивал, сразу открывал – просто потому, что за минуту до этого слышал звук подъехавшей хлебовозки. С той стороны окна уже стоял угрюмый водила. Подавал мне ведомость, я расписывался, авторучка всегда лежала в кармане моей серой спецовки.
Потом он раскрывал двери своего грузовика, подогнанного к окну магазина задним ходом. Нутро грузовика было полно лотков с хлебом. Он подавал их мне, а я бегом разносил лотки по магазину, загоняя в специальные стойки – белый хлеб к белому, ржаной к ржаному.
Хлеб был ещё тёплым. Я склонял к нему лицо и каждый раз едва удерживался от того, чтобы не откусить ароматный ломоть прямо на бегу.
Однажды, под утро, водила поставил очередной лоток с хлебом на окно ещё до того, как я вернулся назад. Не дождавшись меня, водила сунулся в машину за следующим лотком, и тот, что уже стоял на окне, повалился. Хлеб рассыпался по полу, и несколько булок измазались в грязи, натоптанной моими башмаками.
– Ну, хули ты? – поспешил наехать на меня водитель, сетуя на мою нерасторопность, хотя сам был виноват.
Я ничего не ответил: чтобы дать ему по глупому лицу, нужно было идти через магазин к выходу, открывать железную дверь с двумя замками, в которые не сразу угодишь длинным ключом…
Когда грузовик уехал, я включил в помещении верхний свет и собрал булки с пола. Утерев их рукавом, снова сложил на лоток. Две булки не оттирались – грязь по ним только размазывалась, и я несколько раз плюнул на розовые их бока: так оттёрлось куда легче и лучше.
Алёша появился возле магазина совершенно случайно, и я до сих пор ума не приложу, зачем мне его подсунули в этот раз.
Я как раз шёл на смену, докуривал, делая последние затяжки, метя окурком в урну, и тут Алёша вышел мне навстречу из раскрытых дверей моего магазина.
Не видя никаких причин, чтобы до сих пор злиться на него, я поприветствовал Алёшу и даже приобнял немного.
– Ты что, здесь работаешь? – спросил он.
– Гружу, – ответил я, улыбаясь.
– К тебе можно зайти? Согреться? Ненадолго? – торопливо спрашивал Алёша, явно не желая услышать отказ. – Я всё равно скоро домой, подарков купил дочери, – в качестве доказательства он приподнял сумку.
– Нет, сейчас нельзя, – ответил я. – Только когда продавцы уйдут и заведующая. Через час.
Через час в дверь начали долбить. Алёша был уже пьян, к тому же с другом.
Друг, правда, показался мне хорошим парнем, с детским взглядом, здоровый, выше меня, очень милый – маленькие уши на большой голове, тёплая ладонь. Он почти всё время молчал, даже не пытаясь участвовать в разговоре, но так трогательно улыбался, что ему всё время хотелось пожать руку.
Я показывал им свои хлеба, свои лотки. Провёл в ту каморку, где последнее время скучал ночами, словно в ожидании какого-то облома, толком не зная, как именно он выглядит: с тех пор, как в четвёртом классе старшеклассники последний раз отобрали у меня деньги, никаких обломов я не испытывал.
Водку ребята принесли с собой.
– Скоро будет тёплый хлебушек, – посулился я.
К тому времени, когда хлебушек привезли, мы все уже были пьяны и много смеялись.
Алёша как раз показывал мне подарки для своей дочуры. Сначала странного анемичного плюшевого зверя, которого я, к искренней обиде Алёши, щёлкнул по носу. Потом книгу «Карлсон» с цветными иллюстрациями.
– Любимая моя сказка, – сказал Алёша неожиданно серьёзно. – Читал её с четырех лет и до четырнадцати. По нескольку раз в год.
Он сообщил это таким тоном, словно признался в чём-то удивительно важном.
«С детства не терпел эту книжку…» – подумал я, но не произнёс вслух.
Топая по каменному полу, чтобы открыть окошко, в которое мне подавали хлеб, я вспомнил, как только что, нежно хлопая своего нового друга по плечу, Алёша сказал:
– Пей, малыш! – и, повернувшись ко мне, добавил: – А ты не малыш больше. – И все засмеялись, толком не поняв, отчего именно.
Спустя минуту, хохоча, мы разгружали хлеб втроём. Водила – кажется, тот самый – с интересом поглядывал на нас. Принимая последний лоток с хлебом, я ему по пустому поводу нагрубил. Он ответил – впрочем, не очень злобно и даже, немедленно поняв мой настрой, попытался исправить ситуацию, сказав что-то примирительное. Но я уже передал лоток новому другу Алёши и пошёл открывать дверь.
– Стой, сейчас я выйду, – кинул я водиле через плечо.
По дороге вспомнил, что иду к дверям без ключей, ключи вроде бы выложил на столе в каморке. Вернулся туда, никак не мог найти, двигал зачем-то початые бутылки и обкусанный хлеб. Ключи нашёл во внутреннем кармане спецовки – чувствовал ведь, что они больно упираются, если лоток к груди прижимаешь.
Когда я вышел на улицу, грузовик уже уехал. Из помещения на улицу шёл хлебный дух.
Выбрел за мной и Алёша с сигаретой в зубах. Следом, мягко улыбаясь, появился в раскрытых дверях его спутник.
Мы кидали снежки, пытаясь попасть в фонарь, но не попадали – зато попали в окно, откуда, в попытке спасти от нас уличное освещение, неведомая женщина грозила нам, стуча по стеклу.
Дурачась, мы столкнулись плечами с Алёшиным другом, и я предложил ему подраться, не всерьёз, просто для забавы – нанося удары ладонями, а не кулаками. Он согласился.
Мы встали в стойки, я – бодро попрыгивая, он – не двигаясь и глядя на меня почти нежно.
Я сделал шаг вперёд, и меня немедленно вырубили прямым ударом в лоб. Кулак, ударивший меня, был сжат.
Очнувшись спустя минуту, я долго тёр снегом виски и лоб. Снег был жёсткий и без запаха.
– Упал? – сказал Алёша, не вложив в свой вопрос ни единой эмоции.
Я потряс головой и скосил на него глаза: голову поворачивать было больно. Он курил, очень спокойный, в прямом и ярком от снега свете фонаря.
На следующий день мне позвонили из представительства легиона. Я сказал им, что никуда не поеду.
Чёрт и другие
Раз в полгода за стеной раздаётся звук подбираемого одним пальцем на пианино гимна:
– Союз… не… до… неруши… мый!.. до… ми… ре… ре… спу… блик!.. республик… сво… до… свободных…
Потом Нина задумывается надолго… её зовут Нина, ей сорок лет, она давно в разводе.
Захлопывается крышка. Ещё полгода гимн я не услышу.
У неё есть дочь пятнадцати лет. Год назад она была незаметна, лишена цвета и запаха, чёлка какая-то попадалась иногда, лица не было никакого, глаз она не поднимала.
Помню только, однажды они с мамой играли в бадминтон прямо во дворе. Понятно было, что дочка попросила составить компанию, мать из жалости согласилась – никто с её чадонькой не дружит! – но при этом чувствовала себя совсем неудобно и всё поглядывала на соседские окна. Игра никак не ладилась. По-моему, никто из них так и не взял ни одной подачи. Ударит мама. Ударит дочка. Ударит мама. Ударит дочка… И всякий раз лезут в кусты, долго ищут оперившийся прыткий шарик.
Кот из соседнего подъезда смотрел брезгливо за всем этим. Я сразу сбежал, чтоб не видеть, но не забыл вот.
А этой весной дочь вышла вдруг из подъезда и «здравствуйте» говорит. Будто три монеты уронили в стакан тонкого стекла.
Смотрит в лицо.
Я поднял взгляд и зажмурился.
Мое ответное «здравствуйте» хрустнуло, как древесная кора.
На ней белые, словно мороженое, кроссовки на толстой подошве, джинсы расклешённые, а курточка с маечкой такие, словно с младшего брата сняла – до пупка не дотягивают.
Хотя младшего брата у неё нет.
Имя её я не знаю. Есть какое-то имя вроде, но не знаю.
Днём в подъезде стоят её знакомые малолетки – одноклассники, наверное. Разговаривают так, словно у них насморк. Даже не касаясь их, я знаю, что пальцы у них мокры и холодны. Положи на батарею – батарея начнёт промерзать. Положи в один карман рыбу, в другой такую руку – полезешь и не различишь где что. Зачем природа так не любит подростков с их, знаете, кожей, с их воспалённым… ну чем воспалённым? всем воспалённым.
Вечером появляются другие: на прекрасно дрессированной машине подъезжают двое, оба в узких чёрных ботинках, один в ароматном джемпере, второй в чёрном костюме – белая рубашка, воротничок – как будто только что сдавал бухгалтерский отчёт. Сдал на «пятёрку».
Соседка спускается к ним и, задыхаясь от чего-то, курлыкает возле машины, а они будто бы распушаются, и перья их наэлектризованы – просто не видно под джемпером и под пиджаком, как там всё с лёгким треском искрится.
В машине мягкие сиденья. В кармане чёрного пиджака презервативы.
Слышу, как Нина открывает окно и громко произносит:
– Тут разговаривайте, поняла? Никуда не уезжай. Слышишь или нет?
– Слышу, мам, – отвечает дочь спокойно и снова тихо курлыкает.
Потом машина послушно заводится, а через минуту хлопает дверь подъезда – девушка возвращается в квартиру к маме, улыбаясь самой себе.
Тем временем эти двое в машине говорят друг другу всякие пакости.
На ночь Нина кормит доченьку творожниками и пирожками. Она всё время готовит, а я тоскливо принюхиваюсь, пытаясь различить начинку.
Другой сосед профессор, изучает какие-то точные науки, зовут Юрий, отчество забыл. Он никогда не улыбается и, уверен, даже не умеет этого делать. Половик возле его дверей самый чистый. Впрочем, возле моей квартиры вообще нет половика.
Когда Юрий поднимается на площадку, он всё время приговаривает что-то. Дословно не разобрать, но что-то вроде: «…отвратительно… грязь!.. как самим не стыдно… это же натуральное извращение… ничто иное!.. нет, просто безумие какое-то…»
Если Нина играет гимн раз в полгода, то Юрий пылесосит раз в полтора часа, иногда чаще. Пылесос звучит остервенело и огрызается, как загнанный.
Однажды я курил в подъезде, Юрий зачем-то открыл дверь – сначала первую, деревянную, в три замка, потом вторую, железную, ещё в три замка. Глянул на меня и тут же закрылся, спасаясь, быть может, от микробов, ну и вообще от того, что я пылен, испепелён, тленен.
Однако я успел заметить, что он был в накрахмаленном белом фартуке, синих, выстиранных до бесцветности домашних брюках и в бахилах на ногах – вот как в больницах и поликлиниках выдают бахилы на резиночках, чтоб не топтали, – так он ходит по дому. Под бахилами были тапки. Носки его тоже успел заметить, под укоротившимися от стирки брюками они смотрелись как гольфы.
За спиной Юрия мелькнул его сын, тоже, кажется, Юрий, симпатичный парень лет восемнадцати. И он был в бахилах, я точно видел.
Дверь захлопнулась, вослед за ней деревянно гаркнула вторая, и тут же включился пылесос – профессор Юрий приступил к истребленью сигаретного дымка, проникнувшего в дом.
Мы с Ниной однажды столкнулись лицом к лицу в подъезде, перекинулись парой слов, чуть повышая голос – Юрий как раз пылесосил.
– Чистоту любит сосед, – сказал я чуть иронично.
– Не был у него дома? – спросила Нина.
– Кто же меня пустит, такого грязного.
– Там как в операционной, – сказала Нина внятным шёпотом – будто опасаясь, что даже через истерзанное рычание пылесоса Юрий способен нас услышать.
Женщины в его дому не водилось.
Но как-то ночью я услышал у соседей крики и внятный шум борьбы. Привстав на кровати, порыскал включатель, зажёг резкий и жёлтый свет.
Раздававшаяся в ночи речь была невнятна, но мужские голоса, похоже, принадлежали Юрию и его сыну. И ещё был женский голос – он вскрикивал и рыдал; рот женщины будто бы затыкали, зажимали всё время.
Громко падали стулья, рушились вешалки, вдребезги билась посуда, потом вдруг всё стихло, и кто-то пробежал в тапочках, кажется, на кухню. Было отчётливо слышно, как ложечкой мешают чай, быстро-быстро.