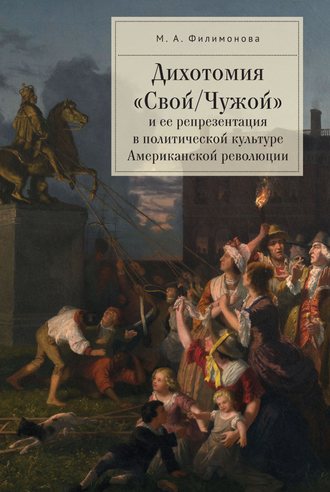
Полная версия
Дихотомия «Свой/Чужой» и ее репрезентация в политической культуре Американской революции

М. А. Филимонова
Дихотомия «Свой/Чужой» и ее репрезентация в политической культуре Американской революции
Введение
«Мы» и «Они» – одна из древнейших бинарных оппозиций человеческого сознания. Представление о себе всегда формируется в связи с представлением о другом1. Соответственно, образы Других складываются во все эпохи и у всех народов. Ц. Тодоров определял Других как группу, к которой Мы не принадлежим. Для мужчин это женщины, для бедных – богатые и т.п.2 Образы Других, следовательно, могут быть гендерными, социальными, этническими, религиозными и т.д.
Особенно актуальной политика образов становится в переломные эпохи, в частности, в периоды революций. Революция сопровождается сломом традиционных представлений в самых разных сферах жизни. Возникает потребность в новых образах. Меняется, иногда весьма радикально, набор представлений о прошлом и будущем. Пересматривается набор значимых имен и меняются их оценки. Прежние герои теряют актуальность, а то и демонизируются, на их место приходят новые персонажи национального пантеона. Конечно же, ломается вся существующая система потестарной имагологии – и конструируется заново. В ходе революции также изменяется представление нации о самой себе, своих союзниках и врагах. Революции Нового времени, как правило, сопровождаются активным нациестроительством.
Американская революция конца XVIII в. не была здесь исключением. Она стала толчком и основой для создания новой американской нации. Внешнеполитические образы в сознании американцев также радикально изменились за время революции. Характерный пример – трансформация образов Англии и Франции в ходе Войны за независимость. Англия из «родины-матери» превращается во «враждебного чужого». В восприятии Франции исчезает традиционный антикатолицизм, сменяясь доброжелательством к главному союзнику США. Поэтому исследования ментальности Американской революции представляются важными и целесообразными.
Имагология – одно из актуальных, бурно развивающихся направлений исторической науки. Впервые проблему изучения «чужого в культуре» поставили еще основатели школы «Анналов» Л. Февр и М. Блок. Имагология как самостоятельное научное направление стала оформляться в середине XX в. Причем первым из ее многочисленных ныне подразделений стала компаративная имагология, т.е. изучение образов Других, национальных образов, этнических стереотипов. В последнее время появился термин аллология, т.е. изучение Других в широком смысле, не обязательно связанное с внешней политикой.
На теоретическом уровне проблему поставили постструктуралисты. Именно они обратили внимание на то, что текст сообщает читателю не только то, что туда закладывал автор: текст может выражать сам себя. Они пришли к выводу, что источник сообщает не только и не столько о событиях, сколько об образах событий. И они же поставили вопрос об изучении дискурса, риторики. Текст требует не только прочтения, но и расшифровки его языка, содержащихся в нем клише и стереотипов. М. Фуко, Р. Барт, Х. Уайт и другие постструктуралисты поставили проблему отличия образа от реальности. С их точки зрения, исторические источники отражают именно образы, риторические практики, дискурс3. Постструктурализм послужил мощным толчком к развитию имагологии. Работы пост-структуралистов показали, что язык не является нейтральным средством трансляции мыслей и чувств человека. Языковые средства могут быть использованы также для навязывания обществу определенных представлений4. На этой базе имагология начала успешное развитие. К 1980-м гг. во Франции, Германии, Нидерландах были созданы имагологические научные центры.
Важным стимулом для имагологических исследований стали новые концепции национальной идентичности, сложившиеся во второй половине XX в. Две различные школы историков и политологов, сложившиеся в XX в. – примордиалисты и конструктивисты – по-разному трактуют природу и происхождение наций. Примордиалисты (К. Гирц, Э. Шилз, У. Коннор) считают этнос сообществом, скрепленным прежде всего кровнородственными связями5. Конструктивисты (Б. Андерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, С.Г. Кара-Мурза) считают, что нация – искусственный конструкт6. Для его возникновения, в частности, и нужны образы Других: союзников, врагов, объектов мессианистских устремлений или, напротив, моделей для подражания. При сравнении с Другими формируется собственная идентичность.
Наконец, весьма влиятельной оказалась концепция «ориентализма» Э. Саида, который подчеркивает искусственный характер существовавшего на Западе образа Востока. Ориентализм выступал как особый язык и стиль мышления. Он проявлялся через различные культурные механизмы: научный дискурс, литературные клише, поэтические образы и т.п. При этом образ Востока ни в коем случае не являлся нейтральным; он служил созданию и поддержанию западной гегемонии на Востоке. Э. Саид показывает, что те знания о Востоке, которые были распространены на Западе, мало что говорили о самом Востоке, но больше о стремлении Запада навязать свои представления людям и культуре народов, которые подпали под его власть. Это позволяет объяснить, каким образом небольшая кучка европейцев удерживала власть над огромным населением Азии и Африки. Вообще, культурные связи здесь играли куда более важную роль, чем прямое господство и грубая сила. Важным фактором в этой «микрофизике» империализма являлся «объединяющий дискурс» империализма. Все делалось для того, чтобы связать западную и местную культуру неразрывно, чтобы перемены стали невозможными. Саид выделяет зоны понимания, которые стали общими и для колонизаторов, и для колонизуемых, и составляли основу «культурного империализма». В итоге имперская власть предстает не как материальный феномен, а как эпистемологическая система. Необходимая часть демонтажа западного господства – «деколонизация языка»7.
Методологические подходы, описанные выше, заметно повлияли на исследования ментальности Американской революции в США. В современных исследованиях преобладает конструктивистская концепция американской идентичности.
В формулировке, использованной С. Хантингтоном, идентичность «столь же обязательна, сколь и не отчетлива»8. Тем не менее, он старается найти для идентичности четкое определение и приходит к мысли, что она заключается в представлении об особых качествах, отличающих Нас от Них. Новорожденный получает латентную идентичность (пол, гражданство, этническая принадлежность), которая актуализируется при ее осознании ребенком. Идентичность может быть индивидуальной или групповой. Идентичность – это конструкт, «воображаемая сущность» (парафраз знаменитой концепции П. Андерсона «Воображаемые сообщества»). Идентичность как индивидов, так и групп не является цельной; разные групповые идентичности одного и того же коллектива могут дополнять друг друга или конфликтовать. Значимость той или иной конкретной идентичности ситуационна9. С. Хантингтон выделяет в качестве основы американской идентичности «английский язык, десять евангельских заповедей, английские же представления о главенстве закона, ответственности правителей и правах отдельных личностей, а также “раскольнические” протестантские ценности – индивидуализм, рабочая этика, убежденность в том, что люди могут и должны создать рай на земле – или “град на холме”»10.
В последние десятилетия появилась новая школа историков, изучающих американский национализм и его ритуалы. Их исследования показывают глубину изменений, происшедших в ментальности колонистов, ставших американцами. Основной вывод, сделанный этими исследователями: вокруг новых революционных ритуалов складывалась новая американская идентичность11. В то же время целый ряд историков не без оснований подчеркивает хрупкость новорожденной национальной идентичности12. Изучаются и другие частные вопросы, связанные с формированием национального самосознания: его отражение в театре, архитектуре, географических картах и др.13
Л. Риордан в монографии, посвященной среднеатлантическому региону, подчеркивает политизацию религиозной, расовой, этнической принадлежности в период Американской революции; ре-моделирование идентичности было частью процесса превращения британских подданных в граждан США и частью стратегий адаптации в новом революционном и постреволюционном обществе14.
Существуют и другие точки зрения. Так, Дж.П. Грин подчеркивает континуитет идентичности в колониальной и постколониальной Америке. Он считает, что американская ментальность, сложившаяся ко второй половине XVIII в., формировалась под влиянием трех факторов: особенностей английской колонизации, условий жизни в колониях и природы британской колониальной администрации15. По мнению Дж. Эплби, идеальное государство для американцев означало «единого короля, единую церковь и единый язык»; соответственно, Американская революция, ничего подобного не предложившая, не создавала также интегративной национальной идентичности16. Следует признать, что концепция Дж. Эплби в данном случае выглядит спорной. Здесь американцам XVIII в. приписывается средневековая концепция общества, ничего общего не имеющая ни с господствующими просвещенческими теориями (для них единый народ-суверен был куда важнее единого монарха), ни с реальным положением дел в колониальной Америке – полиэтническом, мультирелигиозном обществе.
Что касается собственно имагологических исследований периода Американской революции, то они в большинстве своем посвящены «внутренним Другим» – тем, с кем белые американцы XVIII в. могли контактировать внутри собственного социума: женщинам, афроамериканцам, индейцам. При этом исследователи приходят к предсказуемо негативным (и односторонним) выводам относительно Американской революции и ее результатов. Например, в исследовании К. Смит-Розенберг акцент делается на том, как по контрасту с Другими создавалась идентичность поколения «отцов-основателей». Для того, чтобы новая нация, лишенная общего прошлого, религии и культуры, могла ощутить собственное единство, ее идеологи прибегли к маргинализации Других: афроамериканцев, индейцев, женщин, неимущих. Соответственно, Американская революция предстает как источник расизма, сексизма и ксенофобии17. Для Р.Г. Паркинсона основной частью революционной пропаганды является создание «образа врага» и игра на расовых предрассудках. Революционный дискурс строился на таких концептах, как «мятежники у нас дома» и «безжалостные дикари». Как вывод, автор утверждает, что расизм стал краеугольным камнем США с момента основания18.
Выводы У.Х. Трюттнера, пожалуй, демонстрируют другую крайность. Этот ученый, изучая изображения индейцев в ранней американской живописи, выделял, в частности, образы «благородного дикаря» и «республиканского индейца»19. «Безжалостных дикарей» в его исследовании просто нет, хотя для американцев XVIII в. они определенно существовали.
Существуют и монографии, посвященные образам других меньшинств Американской революции, например, католиков20 или евреев. Интересную концепцию в отношении этих последних выдвигает Л. Харап. Исследователь делает вывод, что за границами американской идентичности в XVIII в. оставались как евреи, так и католики, а также протестанты-диссентеры (квакеры, баптисты). При этом парадоксальным образом положение евреев было в США лучшим, чем, например, положение квакеров. При сохранении бытового антисемитизма, гражданские права евреи все же получили. Так что история данной этнорелигиозной группы демонстрирует оптимистическую сторону Американской революции21.
Гораздо меньше в американской историографии собственно аллологических исследований, посвященных европейским Другим Американской революции. В основном речь идет об образах англичан и французов. В первом случае показательны работы, прочитывающие Американскую революцию через призму постколониальных исследований. Концепции Э. Саида в области культурного колониализма породили схожие подходы в применении к колониальной и постколониальной Америке. В частности, К. Акеми Йокота подчеркивает, что политическая независимость США не отменяла у их граждан ощущения сохраняющейся культурной зависимости от Великобритании и собственного периферийного положения22.
Что касается образа французов, то здесь можно выделить исследования, посвященные этническим стереотипам, ассоциирующимся с этим народом, а также персонально образу Ж. де Лафайета. У.Л. Чью приходит к выводу об устойчивости стереотипа: трэвелоги XVIII – начала XIX вв. содержали многие клише относительно французского национального характера, которые можно встретить в голливудских фильмах23. Коллективная монография, посвященная взаимовосприятию французов и американцев, подчеркивает, что «национальный характер» является на самом деле конструктом, чье распространение и рецепция зависят от исторической обстановки. У.Л. Чью, в частности, подчеркивает несовпадение американского образа Лафайета и реальных политических убеждений последнего. В США Лафайета приветствовали как борца за демократию, моделируя его образ в соответствии со своими представлениями о революционном герое. С умеренным либерализмом реального Лафайета это никак не коррелировало24.
Но в целом, аллологические образы Американской революции остаются практически неизученными.
В отечественную науку термин «имагология» вошел в середине 1980-х гг. Исследование образов Других – одно из ключевых направлений развивающейся отечественной имагологии. Однако еще до появления отдельного направления, в 1970-х гг. имагологические подходы использовал Л.А. Зак при исследовании внешнеполитических стереотипов, используемых дипломатией западных стран25. В этом же ключе изучали образ Африки А.Б. Давидсон и В.А. Махрушин26. Н.Е. Ерофеев исследовал взаимовосприятие России и Великобритании27.
В 2000 г. на базе РУДН был создан центр сопоставительно-антропологических исследований «Историко-антропологическая компаративистика», в проблематику которого, в частности, включены изучение специфики мировосприятия и стереотипов различных исторических эпох, латентной картины мира России в ключевые периоды ее истории28.
Поле имагологических исследований постоянно расширяется. В частности, М.А. Бойцов занимается имагологией власти, О.И. Тогоева – имагологией судебной процедуры в средневековой Европе и т.д.29 Авторы приходят к интересным и ценным выводам. Так, М.А. Бойцов и О.Г. Эксле, исследуя образы власти, обращают внимание на сложное взаимодействие образных рядов, навязанных сверху и существующих в сознании подданных, причем сценариев такого взаимодействия может быть бесконечно много30. Многочисленными являются аллологические исследования31. Неотъемлемой частью имагологических исследований является изучение образа врага и ксенофобии32.
При этом используются современные методологические подходы. Так, Л.П. Репина выделяет такие ключевые для имагологии методологические принципы, как необходимость учета психологической составляющей процесса формирования этнических представлений; принцип отражения в образе другого народа черт собственной коллективной психологии33. С.И. Лучицкая анализирует термины, используемые для обозначения мусульман в средневековых западноевропейских текстах, определяет основные темы, связанные в этих источниках с мусульманами (особенности религиозного культа, нравственность и интеллект, военное искусство, политические институты и т.д.)34.
В отечественной американистике имагологические исследования проводятся главным образом при изучении российско-американских отношений. В.И. Журавлева ставит перед собой задачу выявить источники представлений о России в США; факторы, определившие конструирование ее образов; репертуары смыслов различных американских дискурсов, заданных текстом о России. Исследовательница приходит к выводу о том, что существует несколько различных устойчивых американских дискурсов о России: либерально-универсалистский, консервативно-пессимистический и др. В итоге американцы «изобретали» Россию, приписывая ей различные характеристики в соответствии с собственными идеологическими установками. Она также обращает внимание на такой феномен, как «персонификация» происходивших в России процессов в восприятии американских наблюдателей, когда те или иные изменения российской политики воспринимались через призму деятельности ее правителей35. В.И. Журавлева выдвигает теорию о том, что основополагающим американским контекстом, определяющим механизмы использования русского Другого, были социокультурные и политические особенности самого американского общества; текущее состояние отношений с Россией играло лишь вспомогательную роль36.
И.И. Курилла определил проблематику своего исследования так: что именно интересовало американцев в России и русских в Америке? Как они сами воспринимались местными жителями? Как на их отношение влияла политика и «домашние» стереотипы? Насколько опыт их знакомства с чужим обществом мог повлиять на политику и образ этой страны в собственном отечестве? В итоге он приходит к выводу, что ни образ России в США, ни образ США в России не были однородными и не оставались неизменными. В обеих странах существовали как позитивные, так и негативные оценки «заокеанского партнера». В американском обществе наблюдалось улучшение отношения к России в связи с модернизационными шагами Николая I и реформами Александра II. В России образ Америки как страны по преимуществу торговой и сельскохозяйственной сменялся в 1840-х гг. представлением о США как о «рассаднике промышленности». Зато в 1850-х гг. русские обращали внимание преимущественно на проблему рабства в США37.
Имагологии российско-американских отношений на рубеже XX–XXI вв. посвящена монография Э.Я. Баталова, В.Ю. Журавлевой и К.В. Хозинской «Рычащий медведь на диком Востоке». Авторы выделяют следующие особенности внешнеполитического образа: он имеет интерактивную природу, эмоционально окрашен, не совпадает с реальностью и способен изменяться или оставаться неизменным независимо от эволюции стоящего за ним объекта. Международный имидж государства может способствовать проведению успешной внешней политики или тормозить ее; он влияет на судьбу страны. В формировании внешнеполитического образа участвуют самые разные субъекты: государство, СМИ, экспертные сообщества (авторы называют их «фабриками мысли»)38.
При этом в отечественной, как и в американской историографии отсутствуют комплексные исследования, посвященные имагологии Американской революции, включавшей многочисленные образы Других: метрополии, стран европейского континента, соседей по североамериканскому материку (индейцев, канадцев) и «чужих» внутри социума (католиков, квакеров, лоялистов и др.). Мир внешнеполитических образов Американской революции был чрезвычайно многообразен. Создать исчерпывающе полную картину в рамках одной монографии невозможно. Однако автор ставит перед собой задачу хотя бы отчасти заполнить существующий пробел и создать репрезентативную картину массового сознания США в первые годы их существования, где отразилось бы восприятие далеких и близких Других, образы друзей и врагов и просто экзотических стран, какой была для американцев XVIII в. Россия.
Хронологические рамки исследования охватывают предреволюционный и революционный период – 25 лет между окончанием Семилетней войны (1763) и ратификацией современной конституции США (1788). В это время шло активное становление вигской идеологии, а затем и новой государственности. Зарождалось новое национальное самосознание. Как уже сказано, процесс сопровождался повышением политической активности масс. Все это не могло не влиять на существующие имагологические представления. Одни из них стремительно теряли актуальность, менялись стереотипные оценки, существовавшие веками, но другие сохраняли устойчивость.
Отчасти процесс был осознанным и направлялся лидерами мнений того времени – редакторами газет, памфлетистами, писателями и др., прежде всего, принадлежавшими к вигскому лагерю. Внутри сообщества вигов, конечно, существовали свои различия. С самого начала выделялись умеренные и радикальные виги, с различным отношением к ключевым проблемам внутренней политики. В 1780-х гг. наметился конфликт между националистами и локалистами – сторонниками и противниками централизации США. Существовали также трения между Югом и Севером, приатлантическим побережьем и фронтиром, крупными и малыми штатами. Но в это время, в отличие от ситуации 1790-х гг., все существующие различия между вигами слабо отражались на внешнеполитических образах.
Внешнеполитические образы могли отражаться в текстах и быть выражены эксплицитно, но такая ситуация нетипична. Чаще представления о Других специально не вербализировались. Они проявлялись в праздничных ритуалах и формулах рекламных объявлений, стереотипных визуальных образах и речевых клише. Собственно говоря, каждый образ другого народа, если он был достаточно разработан, включал в себя целый конгломерат представлений о географических особенностях страны, национальном характере, истории, материальной культуре. Образ Англии – это и последние акты парламента, и Великая хартия вольностей, и лондонская мода.
Соответственно, проблема изучения образов Других прежде всего сталкивается с проблемой источниковой базы. Как известно, еще Л. Февр и М. Блок поставили проблему расширения круга традиционных исторических источников. В настоящее время текст, разумеется, уже не выступает как единственно возможный источник. Так, уже упоминавшийся М.А. Бойцов пишет об обонятельных, тактильных, акустических и, конечно же, визуальных образах власти39. Видимо, то же можно сказать об образах той или иной страны. Скажем, Канада у солдат Континентальной армии ассоциировалась не только с абстрактными представлениями вроде «объект освобождения», но также с непривычно сильными морозами и вкусом березового сока. Соответственно, круг источников, в которых отражаются образы Других, может быть чрезвычайно широк. Об этом свидетельствуют и существующие монографии по аллологической тематике. Например, Е.В. Папилова при исследовании образа немца в русском фольклоре использует материал пословиц, былин, сказов, ратных заговоров, исторических песен, ярмарочных зазываний, анекдотов и др.40 В.И. Журавлева и И.И. Курилла изучают взаимные репрезентации России и США на материале школьных учебников41. Богатый материал по истории визуальных образов дает карикатуристика42. Очень много информации может содержаться в речевых клише. Б.И. Колоницкий, изучая дискурс 1917 г. в России, обращает внимание на то, что введение политических терминов в свою речь не проходит бесследно для людей43. Речевые штампы могут определять восприятие. В период Американской революции происходит радикальное изменение политического языка, включая стереотипные формулы, описывающие Других. Особенно хорошо это видно на примере терминологии, описывающей метрополию и Францию. Для изучения стереотипных речевых формул в данной монографии использован метод контент-анализа, позволяющий отследить частоту их употребления и включающий их контекст, оценить эмоциональную окраску тех или иных образов.
При этом образ Другого в массовом сознании не представляет собой связного нарратива и не является цельным и логически непротиворечивым. Совсем напротив, историки, занимающиеся имагологией, обращают внимание на сосуществование в одном и том же обществе противоречащих друг другу образов одного и того же объекта44. Все они также приходят к выводу о том, что реальные особенности объекта могут не иметь к его образу никакого отношения45. М.А. Бойцов подчеркивает, что образ действительности служит одновременно ее отражением и способом воздействия на нее46.
Все указанные выше особенности образа Другого приводят к выводу, что имагологическое исследование, как никакое иное, требует обширной источниковой базы. Более того, задача имагологического исследования – выявить в источниках то, что было для авторов «само собой разумеющимся» и, следовательно, не нуждающимся в специальной вербализации. Исследование визуальных образов в данном случае затрудняется также слабым развитием как живописи, так и карикатуристики в колониальной и революционной Америке.
Определение необходимого для исследования корпуса текстов также в определенной мере представляет собой проблему. Источниками представлений о Других для американцев XVIII в. могли быть личные контакты, связанные то с негативным опытом (таким стала, например, для лоялистки Мэри Олми французская бомбардировка Ньюпорта), то с позитивным (такими были для солдат Континентальной армии их первые контакты с канадцами). Опыт прямого контакта мог вступать в сложное взаимодействие с уже существующими в культуре стереотипами. Так, бесцеремонное поведение английских солдат, расквартированных в Бостоне, вызывало тем больший шок, что сталкивалось с официальным и принятым на веру представлением о доброжелательной метрополии, «родине-матери». Зато впечатления американцев, побывавших в России, в основном подтверждали уже сложившийся стереотип деспотического государства. Итак, образы Других могли формироваться в результате личного контакта с их объектами. Примером здесь могут служить образы Канады, сложившиеся у солдат Континентальной армии, образы Великобритании, Франции или России, формировавшиеся у путешественников, посещавших эти страны. Но чаще американцы получали сведения о европейских странах опосредованно: из географических сочинений, трэвелогов, исторических трудов, публицистики, романов. При этом информация на самом деле могла и не быть актуальной; так, в 1790-х гг. американские журналисты пытались понять национальный характер французов через сведения о галлах, содержащиеся в «Записках» Юлия Цезаря47. Здесь, помимо слабой доступности информации, свою роль сыграли особенности просвещенческой ментальности. Культура Просвещения обладала развитым историческим сознанием. Болингброк, например, уверял, что «любовь к истории кажется неотделимой от человеческой природы»48. История выступала как «учительница жизни», как источник готовых моделей, пригодных для использования в настоящем49. Соответственно, закономерной частью образов Других, конструируемых в культуре XVIII в., служили исторические факты и исторические мифы.



