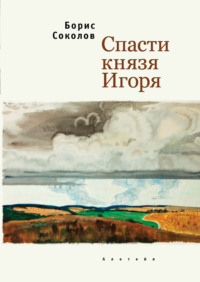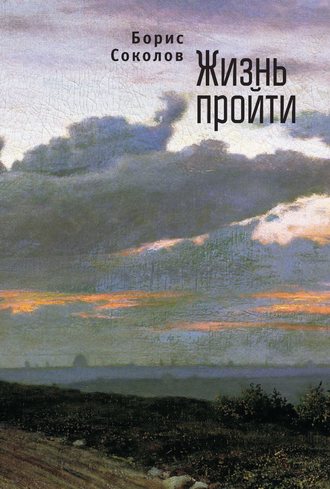
Полная версия
Жизнь пройти
Опустившаяся на двор тишина нарушалась лишь отдельными негромкими звуками. В курятнике куры полусонно вели свою вечернюю перекличку или, может, делились переживаниями ушедшего дня. Слышно, как в хлеву размеренно жуёт жвачку корова, да где-то под воротами звонко заливается сверчок. В окружающем мире всё затихало, готовилось ко сну – а тут, видать, в ночь надобно ехать куда-нибудь.
Радость в душе его мешалась со страхом: вон его лежанка-то на печи так и будет пустовать, а он как раз будет на козлах трястись во тьме по степи, где по ночам, бывает, шатаются лихие люди и останавливают подводы.
Войско атамана Антонова окончательно было разбито, в селе снова установилась власть Ревкома. Слыхать было, что сам атаман не был пойман, скрывался в лесах, а кое-где оставшиеся его летучие отряды в несколько верховых носились по ночам в степи, днём же – как проваливались сквозь землю.
Алёшка помнил, как прошлым летом наведалась в Ольшанку атаманша Маруська. Людская молва летит по земле скорее самой быстрой тройки, и слух о делах атаманши бежал впереди носившейся по дорогам её разношёрстной шайки. Говорили в народе, что в ближней волости среди бела дня был до смерти зарублен местный председатель комбеда и что расправой командовала сама Маруська.
В тот раз удалось Алёшке подглядеть, как влетела в село лихая тачанка с бубенцами: смелая до отчаянности, Маруська не таилась, любила, чтоб далеко было слышно, как она едет. Неслись кони, бешено крутились колёса… вытянув шеи, выбрасывая вперёд голенастые ноги, с истошным криком бросались врассыпную ополоумевшие от страха куры; отставала, клубами вихрилась сзади пыль навстречу всадникам – её охране. Атаманша – в красных гусарских рейтузах, с маузером на боку, в кубанке набекрень, – небрежно развалясь, полулежала на мягком сидении, держа в крепких зубах длинную заморскую папиросу.
Яростным осенним огнём полыхали её очи – и клонились до́лу головы случившихся поблизости мужиков, молодых и матёрых, упирались глаза их в серую пыль под ногами.
Алёшку словно обдало всего холодным ветром, когда глянули в его сторону жёлтые глаза красавицы – было жутко до озноба, но и сладко отчего-то: то ли оттого, что взгляд её скользнул дальше, то ли – что она глянула и на него, шкета, торчавшего сбоку дороги возле деда Аггея, который один не нагнул головы, не упрятал взгляда и в сердцах плюнул себе под ноги.
– Баба! Подстилка дырявая, прости Господи… Портки с лампасами напялила, побрякушки нацепила, а все уж и напужались. Эх вы, ерои…
Рыжебородый Платон, сосед, метнул глазами в деда, ощерился:
– Ну, уж ты, дед, храбёр… ха-ха… когда она проехала.
– Во́на, дурень… Мне што? О душе подумать надобно, а не в драку лезть. А в твои-то годы, Платоша, я на турка ходил…
Платон покраснел, рукой махнул.
– На турка! – повторил он в досаде. – От удумал, дед. То война, а тут свои почище твово турка… Ей, Маруське, всё ништо. Дурья кровь в ей ходить, кипить. Ей што жись, што не жись – едино всё… вожжа под хвост – конец свету белому. Допреж чем самой загинуть, она не одну душу живую сгубит. А нам землю пахать надоть да детишек ро́стить…
Теперь та история с атаманшей вспомнилась как что-то ушедшее, которое воротиться уже никак не может. Он сам перед собой гордился, что ему доверяют такое мужское дело. Вот уже которую ночь почти вся деревня, и отец, и старшие братья Алёшки, и даже дед проводят в поле – началась косьба хлеба.
А он теперь вместо кучера, он и дома за хозяина, даром что ему двенадцать лет. Что до тех, кто по степи шастает, то втайне он был уверен – они его не тронут, он им ничего не сделал. Да и те, кого он, бывало, возил, не садились к нему по одному и всегда были с наганами.
На конюшне его ждала удача: кроме Матрёны там отдыхал один только старый мерин, на котором возили воду, – а конюх сказал, что надо отвезти в Александровку (до неё было 18 вёрст) ветеринара. Матрёна радостно фыркнула Алёшке в лицо, ткнулась ему в плечо мордой, жадно вдыхая знакомый запах вздрагивающими ноздрями. «Признала… ах ты, рыжая…» – пробормотал он, выводя лошадь из стойла. На дворе он подвёл Матрёну к единственному на всю деревню тарантасу, который держали для особых случаев. Лошадь так разволновалась, что слишком резво попятилась в оглобли, налетев на козлы.
– Ну-ну, анчутка! Застоялась, очумела от радости. – Он пошлёпал ладонью по тугой шее кобылы. – Небось с чужим-то не так уж в охотку тащиться куда ни то на ночь глядя… А уж мы с тобой поладим.
Запрягая, Алёшка задирал голову – небо всё больше затягивалось наползавшей хмарью. Намотав супонь на руку, поднатужась, собрав все силы, стянул концы хомута, закрепил. Кося глазом, Матрена ждала, нетерпеливо переступая копытами.
Наконец тронулись со двора. В тарантасе-то ехать хорошо – куда лучше, чем в телеге: не так трясёт да и скорее. И на козлах восседаешь как настоящий кучер. Важничая на виду повстречавшихся баб, Алёшка прогнал по проулку и лихо подкатил к коровнику. У задней его стены горой темнела туша племенного быка. Ещё недавно он видел этого бугая на выпасе, на него было боязно глядеть – до того он был огромный и свирепый с виду. А теперь вот он лежит мёртвый; рядом, понурившись, стоят оба пастуха, притихшие бабы… Ветеринар напоследок повторил мужикам, чтоб не сомневались – бык пал от сибирской язвы, а с ней шутки плохи: надо всё облить карболкой, а тушу закопать. И бросил Алёшке: «Поехали!». Когда он сел, Алёшка развернулся и выправил на дорогу. Сердце его на секунду обдало холодком страха перед тем, что их ждёт впереди. «Глядь, и впрямь один… И нагана не видать. Дела-а-а… Ну-к встренут?»
Заметно темнело. Хмурая наволочь уже застила полнеба. Повечернему лениво, с прохладцей, брехали собаки. Проплывали мимо хаты. И почти из каждой лился ещё бледный свет керосиновых ламп, освещая то цветы в палисаднике, то стёжку к воротам, то кусок плетня.
Седок молчал. Человек он был пришлый, городской, жил теперь в Александровке, на постое. Алёшка робел перед ним и словно всей спиной своей чуял его присутствие.
Оставив позади деревню, выехали на гору. Алёшка оглянулся. Внизу среди тёмных пятен деревьев, хат дрожала горстка слабых огней, словно стайка жёлтых бабочек слетелась на ночлег в низину – там в теплых хатах все приготавливаются ко сну. И теперь уж с поля воротились дедушка, отец, братья, чтобы завтра, в воскресенье, побыть дома. Вот, усталые, топают они по крыльцу, входят в сенцы, сбрасывают серые от пота и пыли рубахи, идут в горницу, умываются. Отец, наклонясь над тазом, фыркает, плещет водой в лицо, на грудь, на шею, разделённую тёмной полосой загара и совсем белой кожи. Мать стоит рядом, подаёт и убирает мыло, потом поливает чистой водой из корца… И улыбается довольной улыбкой. Отец берёт у неё полотенце – с рыжей бороды капает на пол вода…
Так-то вот в такой же вечер на прошлой неделе отец спросил, вытираясь:
– Ну, мать, сказывай, как тут без нас Лексей хозяйствовал.
У Алёшки радостно прыгнуло сердце оттого, что отец о нём спрашивает, как о хозяине. Но он тут же отвернулся от отцовского взгляда – он не забыл как весной отец выпорол его супонью. Попало ему за то, что забыл вовремя закрыть крышку над погребом. Туда свалилась свинья, переломала ноги и её пришлось до срока зарезать. Случилось это во время поста. А тут ему как раз надо было петь в церкви.
Стоял он тогда в первом ряду хора. Внизу голос батюшки гудел, густой, низкий звук вытекал из его толстых губ, ширился, растекался по церкви – где-то в оконце позванивало стекло. Высокие, звонкие голоса хора возносились с клироса кверху, под своды, и там замирали – тонко, щемяще. Алёшке в тот раз нехватало голоса – он не мог вдохнуть полной грудью, потому что болела спина, и приходилось делать вид, что поёт во всю мочь…
Он опамятовался, огляделся. Наверху небо уже напрочь закрылось тяжёлыми тучами. По левую сторону – там, где село солнце, – ещё держалось желтоватое сияние, а небо над ним уже было тёмным. Справа было непроглядно, мрачно – ни звёздочки, оттуда ползли тучи, дышало холодом. Там раз за разом вспыхивало и погрохатывало глухо, как будто ворчливо. А впереди, над дугой, влажно подмигивала чистая голубая звезда.
– Давай скорей, что ль… Не то гроза накроет. Вишь заходит, – послышался за спиной глуховатый голос.
Алёшка причмокнул губами, дернул вожжи – и Матрёна пустилась рысцой, кивая головой и косясь глазом на правую сторону. Он видел, как она чутко прядает ушами и как звёздным светом отсвечивает её глаз. Он обернулся на врача. Тот дремал, прислонясь к боковине кузова, свесив покачивающуюся голову. Алёшка заёрзал на козлах и снова передёрнул вожжами.
Проехали мимо кладбища, выехали на большак. Становилось совсем темно. При сполохе в бледном далёком свете из темени на миг выхватывалась дорога, Матрёна и его, Алёшкины, руки, державшие вожжи. После вспышки тьма, проглатывавшая всё вокруг, казалась ещё непрогляднее, и с ней – будто стая невидимых летучих мышей – слетались к нему ребячьи его страхи (словно нечистый невесть чего нашёптывал ему на ухо).
Но вот снова пробегала по облакам нестрашная, без грома, зарница – и даль распахивалась перед глазами: далеко вперёд виден был пустой большак и вместе с ним убегавшие в степь столбы с проводами. От картины этой, особенно от вида столбов, которые поставлены, чтоб соединять людей меж собой, на душе становилось легче. И под мерный, глухой стук копыт по дороге и тарахтение колёс Алёшка успокаивался, сам себе усмехался. Мысли его потихоньку поворачивали в завтрашний день к намечавшемуся празднику. Тимоша хвастал, что всем можно будет глядеть на ту железную птицу – и даже её потрогать. Вспомнив об этом, Алёшка снова огорчился оттого, что ему-то вряд ли удастся побывать при этом – тут он даже позабыл понукать лошадь.
Но Матрёна чуяла надвигавшуюся грозу и неслась во всю прыть. И ветврач проснулся, кашлял сзади скрипучим голосом. Всё ближе посвёркивали молнии и уже докатывались раскаты грома.
Показались редкие огни Александровки. Когда оставалось лишь въехать в улицу и повернуть направо, совсем неподалёку, за ближней хатой, кривая огненная змея, сорвавшись с неба, скользнула в землю – Алёшку ослепила вспышка, он сжался, вобрал голову в плечи, прикрылся руками. Тут же оглушающе грянул удар грома. Его грохочущие перекаты прокатились, казалось, по спине лошади, по повозке и глухо затерялись в степи, ушли в землю.
Но вот, наконец, и двор. Сторож отворил ворота и Алёшка, не останавливаясь, заехал под навес. Ветеринар сошел вниз, что-то сказал старику и ушёл в дом. Там ещё не ложились – ждали хозяина – в окнах горел свет. Матрёна, повернув голову, смотрела в сторону ворот, где суетился дед.
Алёшку забрали сомнения – может, он успеет обратно, домой? Что кто-то может повстречать его в пути – о том он и думать забыл, в мыслях его теперь была лишь заходящая гроза. Сторож словно прочитал его мысли.
– В обра́т неможно таперя – куды там! Роспрягай кобылу, пострел. Ды отвяди её вон туды, к кормушке! – кричал тонким голосом дед, шаркая по земле и запирая ворота.
Алёшка соскочил с козел, подошёл к лошади. Матрёна шумно вздохнула. Пахло сеном. Жёлтая полоса света достигала навеса, и было тихо здесь, громыхало где-то далеко. Пришёл дед, помог распрячь и отвести лошадь, воротился и ухватил его за рукав.
– Подём в хату.
– Не… – упёрся Алёшка.
– Эка, чудной… Сожрут тя, что ль?
– Не пойду я. – Он упрямо высвободил руку.
– Ишь ты, гордец какой. Ну, погоди.
Старик кряхтя поднялся по ступенькам, прошёл в хату – и тут же воротился, принеся кринку с молоком, пару холодных картошин в мундире, головку лука и горбушку хлеба.
– Давай, оголец, лопай.
Алёшка застеснялся, выдавил:
– Не хо́чу я…
– Ну, будя, будя, – осерчал дед. – Дают – бери… Нешто можно не емши?
Он опять удалился и на этот раз принёс свой зипун.
– Не хошь в хате, ночуй здеся – на сене.
Когда дед ушёл, Алёшка расположился на сеновале: расстелил рогожу и принялся за еду. Хлеб был тёплый, его корка хрустела, поскрипывал на зубах лук, картошка таяла во рту, когда он запивал её молоком.
В хате потух свет, и ему пришлось наощупь шарить руками. По крыше звонко шлёпнула капля, за ней другая, третья – и тут вдруг будто сорвалось, будто кто-то стал сыпать горох на жесть из большого мешка – хлынул ливень.
Алёшка лёг, положил голову на руку. Крыша намокла, шум дождя стал глуше, ровнее. Сверкнула молния, обнажив свесивавшуюся с края крыши частую занавесь из серебристо-голубых нитей, – а на земле уже лужи, ручейки и вода в них кипит, булькает и пузырится. И тут же всё исчезает – снова темень. И слышно только шорох и плеск дождя.
Но вот уже нет ни дождя, ни грома, ни навеса. Вдвоём с Тимофеем они идут через поле, где высокая трава, летают бабочки. Они идут и разговаривают, вспомнили о железной птице. Алёшка удивляется:
– А как это она крыльями махаить?
– Ты чего? – смеётся Тимоша. – Она прямо летит – и всё. Папаня говорил.
– Да она ж упадёт тогда.
– А вот завтрева приходь, сам увидишь.
Они идут дальше и вдруг видят: в небе летит железная птица и машет крыльями. И Алёшка, довольный, кричит Ванятке:
– Во, гляди, говорил я тебе!
И тут огромная и чёрная, как грач, птица стала приближаться, потом снизилась, грохнулась о землю и вдруг кинулась к ним, выбрасывая ноги, неуклюже подпрыгивая и хлопая крыльями – взлетали кверху выдранные клочья травы…
Алёшка аж подпрыгнул на зипуне, тараща глаза в темноту, где всё так же шумел и плескался дождь и где-то рядом хрупала сеном Матрёна. И он, успокоенный, снова повалился на сено и теперь уж крепко заснул безтревожным сном.
Было уже светло, когда он протёр глаза и вышел из-под навеса. Вставало солнце – чистое, золотистое, словно омытое дождём. И в утренней свежести, во влажном воздухе его жёлтое, как лепестки подсолнуха, сияние исходило чуть заметным теплом, похожим на то, какое идёт от только что вынутого из печи каравая. Влажно дышала и парила земля, вдоволь напившаяся дождя. Пахло мокрой травой и сеном, блестели разбросанные по двору зеркальца луж. Небо сияло лёгкой, прозрачной голубизной, словно радовалось, что сбросило на землю тяжёлую ношу туч. Он глядел круго́м и ему казалось, что донимавшие его вчерашние страхи – да и сама гроза – ему просто приснились. Но откуда же тогда лужи и крупные капли воды на лопухах возле ограды?
Алёшка вздохнул, оторопело переступил с ноги на ногу. Чего это с ним? Что, не видал он, что ли, такого сроду?
Что-то шевелилось в нём – там, внутри… будто какое-то слово просилось наружу да так и замерло, невысказанное. В растерянности он воротился под навес, подошёл к лошади. Матрёна тихонько заржала. Вот же, шельма, домой просится, и хорошее сено ей не впрок – подумал он. И потрепал по холке кобылы. Матрёнин глаз ласково и преданно смотрел на Алёшку.
Обратно, чтобы сократить путь, он поехал по просёлочной дороге. Теперь он уселся на сиденье тарантаса как заправский ездок.
Дорога блестела вся, сверкала, переливалась солнечными зайчиками. Алёшка совсем отпустил вожжи, понукать незачем – Матрёна сама торопилась домой. Колёса скользили, съезжали в наполненные водой колеи, снова выбирались оттуда – тарантас ходил ходуном. Шлёпки грязи летели из-под копыт лошади, словно потревоженные кузнечики из густой травы. А вокруг – одна красота: воздух чист и свеж, трава зелена, вымыта дождём, у самой дороги травинки клонятся под тяжестью крупных капель, вспархивают и уходят в небо перепела – всё радуется, всё улыбается утру и солнышку…
Едва лошадь, пофыркивая, выбралась на большак, как со стороны Ольшанки слабо донёсся тягучий колокольный звон. Звонили к заутрене. Алёшка вполне поспевал домой – ехать оставалось немного. Он вспомнил о празднике, но не с такой жгучей жалью, как это было вчера. Он надеялся, что поедет мимо и, может статься, увидит кой-чего издали.
Когда завиднелись кроны деревьев у кладбища, поодаль он разглядел кучку людей и расслышал прорвавшийся сквозь благовест обрывок музыки. Внезапным приливом поднялось в нём нетерпение, и он погнал лошадь скорее.
И тут он увидел её: на зелёном ковре травы, раскинув крылья, ослепительно сверкая серебром на солнце, стояла железная птица.
Что-то с ним сделалось: зная, что его ждут дома, слыша плывущий надо всем зов колокола, он чуял, как одолевает его греховное желание теперь не ехать домой, и нечаянно искал место, где можно будет повернуть на поле. Но тут проехать нельзя было – обочь дороги тянулась овражина, которая кончалась только перед самым спуском в село. Нетерпение возросло в нём до озноба. Алёшка натянул вожжи – Матрёна неохотно остановилась и недоумённо глянула на него. Он соскочил на дорогу, достиг оврага, почти скатился по склону, оскальзываясь, хватаясь за ветки лозняка, кое-как выбрался наверх, и, заляпанный грязью, но обезумевший от счастья, понёсся по мокрой траве.
Странная, неодолимая сила гнала его вперёд. Она была сильнее колокольного звона, сильнее страха перед совершаемым грехом, перед будущим неминуемым наказанием. Он позабыл обо всём.
Великолепная, сияющая под солнцем, как сама мечта, неумолимо звала к себе железная птица.
1963Верблюжье житьё
Памяти В.В. Гурского
(30.01.1939, Орск – 1.11.2014, Германия)
Была весна в оренбургских степях.
Где-то далеко шла война. Сталина Антоша представлял плохо, Гитлера не мог вообразить никак. Воевали они, сколько он помнил, всегда.
Там, на войне, пропал без вести отец. Но он обязательно найдётся. Просто отец временно заблудился где-нибудь, и у него пока ещё нет голубя – из тех, что почту приносят, – чтобы послать с ним письмо или записку. Сам-то он, когда прошлым летом мать брала его с собой на работу в поле, как-то долго блукал в лесопосадке – не мог найти выход, а потом всёж-таки отыскал и вышел к людям. Так думал он и про отца, он и матери сказал про это, а она вдруг заплакала. Он ничего не понял – чего же тут плакать?
А весна была кругом: что-то переменилось вокруг под высоким, необъятным, распахнутым во всю ширь небом. Пацаны бежали по тонкому, хряскому льду схватившихся за ночь луж среди почерневших подушек ещё нестаявшего снега – неслись со всех ног туда, где верблюд вытаскивал застрявший в грязи «студебеккер».
Они опоздали. Шофёр, привалившись к дверце кабины, докуривал папиросу, лениво посматривал на торчавших поодаль баб. Те глядели на него, молодого, белозубого, с тоскующей и ласковой жадностью: в деревне давно уж мужиков-то – раз-два и обчёлся. Да и этот вряд ли здесь задержится – идёт война. Выпряженный верблюд стоял сбоку, одинокий и высокомерный.
Животи́не этой доставалась работа самая тяжёлая, но судьбу свою верблюд нёс без ропота. Соседи завидовали деревне, имевшей такого работягу. Во всех окрестных хозяйствах было всего несколько замордованных лошадей и потому пахали и на коровах. А вот он был один-одинёшенек на всю округу.
Бог знает, откула он взялся. И в армию его не брали – может, верблюдам на фронте нечего делать, а скорей всего был он приблудный и просто не значился в списке колхозного имущества.
Жилось ему не сладко. Ни в какие стойла он не влезал, да никому и в голову не приходило, что верблюду не помешало бы убежище. Но к людям он привязался, и, когда ему случалось быть не в упряжи, он всё время слонялся у околицы, где-то рядом с жильём, как настоящий, преданный друг.
Ясное дело, работу любить он не мог. Она была каторжной, а еды перепадало немного, но он терпеливо сносил все тяготы жизни. Лишь зимой в жестокие бураны делалось ему совсем невмоготу. Оголодавший, дрожащий от холода, он против воли отправлялся воровским путём промышлять кормёжку. Занимался этим верблюд не в пример стеснительно, переходя от избы к избе и дёргая пучок-другой из подвернувшейся на пути копны – способ ужасно глупый, потому что его чаще заставали за таким делом и били чем попадя (а попадались тут хозяевам под руку осиновые жерди и вилы).
Но вот перед самой-то войной ему стало как-то легче существовать – нежданно явилось внимание к его неприкаянной жизни. И пришло оно издалека в образе деда Яниса, ссыльного из Латвии, одного из тех крестьян, у которых было гектара по четыре худородной земли. Как раз в тот зимний лютый день, когда привезли ссыльных, – на перевозке дров измученный, озверевший колхозник, ударив верблюда, нечаянно выбил ему глаз. Старик, которого подселили к ним, согрел воды, промыл бедолаге вытекающий глаз и кое-как приладил на время тряпицу. А потом, когда деда отрядили работать на конюшне, он подкармливал одноглазого как мог: то угостит охапкой сена, то сунет ему твёрдый, но такой вкусный, кусочек жмыха. И верблюд, когда бывал без дела, вечно торчал около ихней хаты, высматривая своего друга.
Антоша побаивался деда Яниса из-за всегдашнего его угрюмства. Какой лихой бедой занесло его в чужие края, в деревне никто не знал, старик молчал как немой и почти не выпускал изо рта большую чёрную трубку.
Но однажды в долгий, унылый зимний вечер его прорвало.
За белым, обросшим инеем, окном чернела тьма, истошно завывала метель. Втроём они сидели в молчании. Мать вязала носки, Антон исподтишка подглядывал за дедом, а тот, зажав в заскорузлом кулаке давно погасшую трубку, не мигая, из-под седых нависших бровей уставился на огонёк керосиновой лампы… Что там виделось ему в тусклом язычке пламени?
И вдруг, путая и коверкая русские слова, он глухо выговорил, что его сын, который там партайфункционир, мог бы замолвить за него слово перед властями, но не захотел – а может, и побоялся…
Это всё, что удалось узнать. А когда уже легли, Антоша не мог уснуть – всё думал об этом длинном, странном слове, которым старик назвал своего сына. И, замучившись, спросил у матери, что оно такое.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.