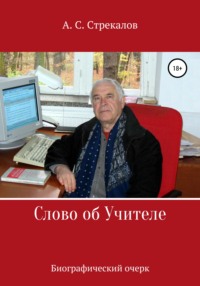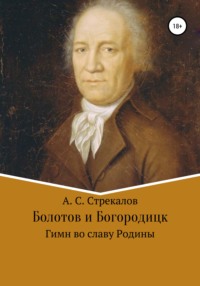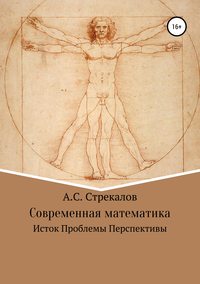Полная версия
Б. Пастернак – баловень Судьбы или её жертва?
Итог был таков, что ошалелый, взрослый мужик барахтался в воде как пацан, ловил снасти и вещи, беспомощно ругался и думал, как ему из грязной воды выбраться и домой попасть в таком неприглядном виде. Серёга же с дружками стояли на берегу и ржали дружно, как жеребцы, довольные собой и выходкой, которую считали удачной, достойной того, чтобы потом знакомым про неё, смеясь, рассказать.
Мне же, когда я всё это слышал, было совсем не смешно, наоборот – грустно и страшно было. Ох, и не хотел бы я никогда попадать Серёге под его шутки дурацкие и под горячую руку, под которой неизвестно ещё – выживешь ли, останешься целым!… А ведь сколько ходит по нашей Святой земле таких вот “серёг-весельчаков”, для которых унизить и опустить человека – праздник настоящий, великий… В такие минуты я очень хорошо понимал, почему Серёгу его дружки детства прозвали за глаза Бармалеем – злым разбойником, если кто позабыл, из сказки К.И Чуковского…
А ещё он был ярым антисоветчиком, учась в МГУ, и патологическим диссидентом, лютым ненавистником Сталина и всей советской системы, построенной якобы на крови. Мне всё это тоже жутко не нравилось, коробило и оскорбляло до глубины души! Ибо сам-то я был сугубым патриотом своей страны, считал Ленина и Сталина с юных лет, как себя помнил, гениями всех времён и народов, создавшими величайшую в мире Державу фактически из руин, сделавшими её самой справедливой и гуманной на свете. Так меня воспитывали в школе учителя, а дома – родители; и в это я свято верил.
Серёгу же эта моя святая вера и убеждённость бесили, выводили из себя, потому что больше всего на свете он не терпел именно верующих людей, имеющих идеалы и цель в жизни. Таких он старался всенепременно с панталыку сбить, посеять в их чистых душах сомнения и хаос.
Он и меня, необразованного паренька, постоянно сбивал, подлец, с пути истинного, державно-патриотического, подсмеивался надо мной, диссидента из меня упорно делал. И при этом для убедительности постоянно осыпал меня страшными цифрами жертв и потерь, вычитанными из Солженицына, из Антонова-Овсеенко, позже – из Волкогонова и Радзинского; вешал потери и жертвы всей советской эпохи на “тирана”-Сталина одного, фамилию которого он спокойно слышать не мог – сразу же начинал беситься и материться!
Но я упирался, как мог, стоял на своём – не хотел верить и знать, что всё в нашей советской Истории было жутко до ужаса, дурно и аморально, построено на крови и костях, на лагерной пыли. Я чувствовал всем естеством, что это – неправда!!! Или, в лучшем случае, перегиб!!!
«Откуда тогда наша силища-то взялась: первоклассные самолёты, Космос и Атом, лучшее в мире образование, наука и культура? – думал я, – если у нас в стране жизнь была такой мрачной, тягостной и антинародной при Сталине?! Забитые и запуганные до смерти люди великую науку и культуру не создадут, и государство могучее не построят!…»
Книг вот только я никаких не читал – ни патриотических, ни диссидентских, вражеских; и не мог поэтому с Серёгой на равных поспорить, его бредовые цифры и “факты” правильными опровергнуть или же перебить. Поэтому и приходилось уступать иногда и соглашаться в спорах…
7
И тем не менее, несмотря ни на что, мне Серёга понравился, пришёлся по сердцу на картошке – и я с тех пор потянулся к нему как стебельки тянутся к свету. Была в нём при всех изъянах и недостатках какая-то природная удаль и бесшабашность, внутренняя свобода и мощь, чего я не замечал в своих сверстниках из общаги. Мы были дети ещё, как ни крути, и были приезжие, гости столицы; вели себя соответствующим образом – как дети и гости: скромно и тихо то есть, робко и незаметно для окружающих. Серёга же был взрослым, опытным и прожжённым парнем, повторю, и был москвичом, любил и ценил Москву, знал её как свои пять пальцев – центр Москвы, во всяком случае. Он и вёл себя и держал поэтому как коренной москвич; сиречь – как настоящий хозяин. И с нами, и с преподавателями, и вообще.
Поэтому я и мои товарищи по ФДСу робели при нём, молчали и слушали больше, а он тарахтел безумолчно, как артист разговорного жанра на сцене, – и постоянно занимался саморекламой, везде и всегда раскручивал и преподносил достоинства свои и таланты, мнимые больше, выдуманные, высосанные из пальца, как потом с очевидностью выяснялось, чем действительные и реальные… И гитаристом он якобы первым в Кунцево был, и шахматистом знатным, и картёжником азартным, лихим, и хорошим спортсменом (пловцом), и любимцем и поклонником дам. И в культуре он рубил якобы как никто – в литературе, в музыке, в живописи. И вообще, он такой человек, тонкий, возвышенный и прекрасный, каких на земле мало, если вообще такие есть, если водятся в природе. Ни дать ни взять – Демон лермонтовский; или всеобщий кумир-обожатель – если попроще и поскромней!
Оголтелая самореклама – национальная еврейская черта: я потом с этим постоянно сталкивался. Как попадается в коллективе еврей, даже самый копеечный и пустяшный, всё, конец, – только его (или её) одного (одну) и слушай и восхищайся, пой дифирамбы и в ладоши хлопай, повторяй, какие они все молодцы.
Вот и Серёга этой болезнью страдал, да ещё и в максимальной степени. Говорил, говорил, говорил безостановочно парень – и всё про себя, любимого и дорогого!… На гитаре он бренчал на пьянках-гулянках, это правда, – но делал это плохо, по-детски: был самоучкой. Блатные песни очень любил, Высоцкого, Визбора, Окуджаву. Ну а какой он картёжник есть – нам он это в первые колхозные дни показал, как только объявился нежданно-негаданно в нашей комнате.
Привёл его доцент Стёпин, напомню, когда мы уже отдыхали на раскладушках после работы, не знали, чем себя занять. А парни-картёжники уже сидели в углу за столом и писали пульку. Вошедший Серёга, когда их и карты увидел, ухмыльнулся презрительно и пробубнил: «В дурачка играете, пацаны, или в пьяницу?» – желая этим унизить моих корешей. Парни опешили от такой откровенной наглости, переглянулись дружно. «…Зачем в дурачка? – заявили чуть погодя. – Пульку расписываемым», – чем окончательно рассмешили Серёгу. «Вы даже и такие слова знаете! – с вызовом сказал он. – Надо же! Под щелобаны играете, или под интерес?»… «Да можем и под интерес сыграть, – тихо ответили парни, с лиц которых удивление не сходило. – Садись, сыграем с тобой»…
В первый день Серёга за карты не сел: мы пьянствовать в лес умотали, а пьянки и бабы для него были всегда важней. А вот на второй день после работы решил сыграть – показать всем класс и заодно “обуть” моих общажных товарищей на пару-тройку рублишек. Сел расписывать пулю он в паре с моим соседом по комнате Костей, будущим “каталой”. Вернее будет сказать, мой товарищ сам выбрал его себе в напарники: уж больно Серёга борзо себя перед этим вёл, “профессионально” и высокомерно как-то. Вот Костя, уже и тогда отменный картёжник, и сел с ним в пару, развесив уши и думая обыграть соперников в пух и прах, деньжат себе подзаработать.
Кончилось всё это тем, такая их “цыганочка с выходом”, что уже через пару-тройку часов Костя с Серёгой просадили по червонцу каждый, большие в советские времена деньги, на которые я, например, мог неделю жить. Выяснилось к всеобщему удивлению, что балабол-Серёга в преферанс играет на самом примитивном, любительском уровне. А парни, против кого он сел, были настоящие профи, мастера.
«А куда ты лезешь тогда, – зло проронил Костя, вылезая расстроенный из-за стола, – если ни х…ра не умеешь, и карт в руках не держал? На червонец меня опустил, м…дак! – надо мне было это?! Иди вон лучше бормотуху пей, не морочь людям голову!»
Серёга и сам был в шоке: оправдывался неуклюже, что, мол, всю жизнь “в ростов” играл, а не “в сочи”, и всё такое. Но это была чистая отговорка, запоздалый трёп: мы именно так все и поняли. Подсмеивались над Серёгой несколько дней, который про карты больше не заикался и к картёжникам нашим не подходил: они с него спесь хорошо тогда сбили.
А я потом понял, ближе к 30-ти годам, что он и везде был таким “картёжником”-пустозвоном! И любой бы профи с него быстро еврейскую спесь его сбил – и игорную, и литературную, и культурную, всякую…
8
Но как бы то ни было, и что бы я тут ни писал, как бы ни размахивал кулаками после драки, но, начиная с 3-го курса, я, тем не менее, стал вторым Серёгиным на мехмате приятелем. Это есть твёрдый факт, от которого никуда не денешься. А всё остальное – эмоции запоздалые и пустые… Первым же и самым главным, самым выгодным его приятелем по возвращении из колхоза стал Беляев Коля, в которого Серёга вцепился как настоящий клещ – насмерть что называется, – которого как породистую корову “доил” и “доил” – и на мехмате, и потом, после его окончания. И до сих пор, как я слышал, всё ещё продолжает это…
Надо сказать, что Коля для него, ярко-выраженного хищника, или же социального паразита на современный лад, был идеальным жертвой и донором. Ещё бы: чистокровный славянин-русич с широкой русской душой, покладистый и хлебосольный, надёжный и верный во всём, готовый другу последнее отдать – всё, что под рукой имеется. Плюс к этому, отец Коли работал заместителем директора НПО «Альтаир» – крупнейшего научно-производственного объединения всесоюзного значения и масштаба, что на «Авиамоторной» располагался. Там, в «Альтаире», в советские годы разрабатывали с нуля (и теперь про это можно уже сообщить открыто, не боясь нарушить грифа секретности) крылатые ракеты морского базирования – для кораблей и подводных лодок. Возможности, понятное дело, у человека, отца Николая, были огромные, для простого смертного и вовсе запредельные.
Не удивительно, что уже на втором курсе мой задушевный университетский друг Николай стал обладателем отдельной двухкомнатной квартиры рядом с парком Кусково, в которой впоследствии его новоиспечённый наперсник Серёга устраивал свои бесконечные пьянки-гулянки. Туда же он регулярно привозил и бл…дей (сохраняю жаргон товарища), и времени проводил там больше, наверное, чем сам хозяин, превратив квартиру в блат-хату, в притон.
Один был минус у Николая для нового его знакомца: он учился три последних курса во втором потоке, выбрав кафедру математической логики, десятую по счёту на Отделении математики нашего ф-та. Поэтому видеться с ним Серёга, студент кафедры математического анализа, постоянно не мог, чего очень хотел, – только после занятий. Я же был всегда под рукой, был рядом, смотрел на него восторженной, повторюсь, если не сказать влюблённо. И амбициозному и тщеславному еврею-Серёге такое мое отношение сильно нравилось, безусловно, тешило его самолюбие. Вот он и приблизил меня к себе, единственного его “друга” в первом потоке, взял надо мной шефство в плане истории и литературы, с которыми я с тех пор постоянно к нему приставал.
«Расскажи да расскажи, – просил, – ты мне про Пастернака и Мандельштама, про того же Солженицына, просвети меня, дурачка. Я ведь эти фамилии, – признавался честно, – только от тебя и узнал. До знаний же я ещё со школьной скамьи страшно жаден!»
«Расскажу, Сань, всё расскажу: дай срок. Соберёмся когда-нибудь с тобой у вас в общаге, или ещё где, купим винца и водочки, посидим тихо и мирно. Вот тогда-то я с тобой и проведу ликбез. Ты, я гляжу, в плане культуры человек сосем тёмный и дикий».
Я не сердился и не отрицал своей культурной и литературной дикости. Просил Серёгу на переменах или на улице по дороге домой мне пока хоть что-нибудь рассказать про Пастернака того же, от которого Серёга, по моим наблюдениям, как от чистого спирта балдел или от непорочной девы, которого выше Пушкина с Лермонтовым ставил, выше Есенина, Блока. Утверждал со знанием дела, что «Пастернак – это космос, мол, поэт будущего, время которого ещё не скоро настанет, потому что не доросли-де до него люди. А может – и не дорастут»…
Я дурел и ехал умом, слыша такое, просил Серёгу принести мне пастернаковские стихи почитать в виде сборников, чтобы самолично познакомиться с ним, составить мнение.
«Да ты охренел, Санёк, спятил! – язвил надо мной мой товарищ. – Борис Пастернак – запрещённый поэт, всю свою сознательную жизнь советскую власть ненавидевший и презиравший, обличавший её по мере возможностей и сил, все её пакости и бл…дство. Поэтому-то власть и запретила его строго-настрого всем читать, из Союза писателей исключила, стихи из библиотек и магазинов изъяла. А ты его почитать просишь! Книжки его теперь достать практически невозможно! Они – на вес золота ценятся! Я его сборники стихов через десятые руки брал – у хороших знакомых! – и брал на несколько дней всего, под залог или под честное слово. А потом возвращал быстро и без задержек. Потому что познакомиться с Пастернаком, насладиться им, ума-разума от него набраться – очередь целая на годы вперёд существует! Это тебе не Пушкин какой-нибудь и не Лермонтов, кого в каждой библиотеке полным-полно – горы целые. А Пастернак, повторю, на несколько голов всех русских поэтов выше…»
После таких и похожих слов я и вовсе оказывался в прострации, в нирване или сомнамбулическом состоянии, надолго замолкал, пришибленный.
«Надо же! – думал, – какие люди на свете есть! А я, деревенщина неумытая, про них ни сном, ни духом не ведаю. Срамота!!! Москвич хренов!!!»
«…Ну хорошо, ладно, пусть, – придя в себя, наконец обращался я опять к Серёге надтреснутым от волнения голосом. – Нельзя так нельзя. Бог с ним. Почитай хотя бы что-нибудь наизусть, если ты так этого Пастернака ценишь и любишь, если много читал. Мне хочется самому понять, оценить величие этого человека, про которого я раньше, ещё раз тебе скажу, вообще ничего и ни от кого не слышал…»
Серёга напрягал память и лицо, задумывался… и через длинную паузу начинал читать строфы из «Гамлета», которые не произвели на меня особого впечатления. Две первых строфы прочитал – и остановился, дальше не стал или не смог прочитать. Сказал лишь, что стихотворение длинное и очень сложное, и что запомнить его тяжело. Добавил, что у Пастернака и все стихи философские и тяжёлые… Потом, подумав, прочитал пару строф из «Свечи». Потом ещё что-то… И всё. Остановился, уже окончательно. Сказал, что этого пока вполне достаточно мне, что дальше, мол, уже жирно будет.
Точно так же он меня знакомил потом и с творчеством Мандельштама, Ахматовой и Цветаевой: пару начальных строф из двух-трёх стихотворений каждого автора прочитает скороговоркой – и всё, шабаш! Хватит, мол, Санёк, перевари, мол, пока хотя бы это; с тебя и этого будет вполне достаточно, задарма… Причём, напутствовал он меня всегда с таким плутовским выражением на лице, будто и Пастернака, и Мандельштама, и Ахматову с Цветаевой он знает от корки до корки, как линии своей руки. Просто не хочет мучить себя, вспоминать. «Я, мол, тебе дал наводку, паря, а ты уж теперь сам крутись, ищи их по знакомым и библиотекам».
Про запрещённых Бабеля и Платонова, Варлама Шаламова того же он мало мне чего познавательного говорил – только перечислял названия их главных произведений. Зато Солженицына взахлёб славил как автора “без-смертного” «Архипелага ГУЛАГ» – «настольной книги, по его словам, каждого интеллигентного и высоконравственного человека»!!! Но и это делал как-то поверхностно, без конкретики и огня в глазах – одними пустыми эпитетами отделывался от меня, лицедей! Потому что сам, наверное, не читал, но не признавался в этом: он вообще редко в чём порочащем его признавался, а лучше сказать – никогда… А вот Михаила Булгакова и его «Мастера и Маргариту» расхваливал на все лады, и делал это часто и много: его он, скорее всего, прочитал; поэтому хорошо помнил сюжет и героев, перечислял их для форсу и убедительности, цитировал некоторые места. Уверял меня всякий раз, что «Мастер и Маргарита» – самый великий роман из всех, которые он знает, куда круче и качественнее «Войны и мiра» и «Тихого дона» даже: это точные его слова…
Мне оставалось лишь слушать и верить Серёге на слово, ибо сам я с Булгаковым в 1990-е годы смог познакомиться только, с «Мастером и Маргаритой» – в том числе. И, признаюсь, был крайне удивлён и раздосадован после прочтения. Я-то ожидал увидеть мысленным зрением что-то великое и широкое как небо над головой, и такое же как небо бездонное, в высшей степени мудрое и познавательное, да ещё и с большим историческим и философским уклоном и реминисценциями, что превосходит качеством и масштабом антикварного уже Толстого, Мельникова-Печёрского и даже Шолохова. Так меня Серёга мой в Университете настраивал, во всяком случае, именно к такому интеллектуальному пиршеству готовил.
Но увидел я вместо этого одну лишь чистую беллетристику, примитивное и плоское бытовое чтиво с копеечными мыслями и проблемами, разбавленное для пущей важности элементами мистики, тоже, кстати сказать, грошёвыми и достаточно примитивными, вырезанными из Евангелий. Коробили в романе и сентенции типа: «Никогда и ничего не проси у сильных мира сего: придут и дадут сами», – которые никак не красят писателя, претендовавшего на пьедестал, которые читать противно. Потому что никто и никогда задарма никому и ничего не даёт, за красивые глазки: стыдно такое не знать взрослому человеку. А у Булгакова это было тем более странно читать, что сам-то Михаил Афанасьевич был ужасным сквалыгой и нытиком: при жизни задолбал Сталина письмами с просьбами помочь с деньгами и публикациями, с лечением и отдыхом. Но в романах и повестях хотел гордым и красивым казаться, лицемер, скрывал от потомков мелочность своей души и мыслей, как и непомерные свои амбиции.
А «Бал Сатаны» меня и вовсе рассмешил сначала, а потом – расстроил. Потому что этакими “страшилками” разве что первоклашек перед сном пугать, а уж никак не бывалых людей почтенного возраста. Ибо сатанинские балы в действительности ни один нормальный человек не опишет и не перенесёт: психика его не выдержит тамошних страстей и кровавых ужасов – в два счёта лопнет… У нас в ЧК было нечто похожее в 1918-20-е годы: когда с людей сдирали кожу заживо, молотами раскалывали черепа, отрубали для смеха руки и ноги, резали гениталии, выкалывали глаза штыками, вспарывали животы и копались во внутренностях, дымящуюся кровь жертв расправ кружками пили вместо допинга, и при этом затыкали уши тампонами марлевыми, спасаясь от душераздирающих криков. Тогда даже и палачи-чекисты, садисты законченные и маньяки, сходили с ума, не выдерживали психологического напряжения! Вот уж были “балы” так “балы”, “кровавые карнавалы” целые – воистину сатанинские!… А Булгаков какими-то детскими ужасами захотел народ удивить. Смешной он был всё-таки парень, этот наш Михаил Афанасьевич!
Я расстроился сильно, помнится, загрустил. «Зачем, – первое, что подумал, – было советским властям такой примитив запрещать, делать ему этим бесплатную рекламу?» Не скажу, что роман плохой, нет: есть там некий цельный сюжет, какой-никакой замысел, язык удобочитаемый. Но уж никакой он не выдающийся, не первого ряда – оставьте этот вздор его горячие поклонники и почитатели, не грешите, не надо! Вам всё равно больше не поверит никто – после того, как Булгаков из подполья вышел, – посмеётся только.
Да, согласен, что и юмора там много добротного и качественного, который читателя держит, не отпускает. Это – главное писательское достоинство и находка, на мой скромный взгляд. Без этого «Мастер и Маргарита» половину бы своей прелести потерял – и остался бы незамеченным читателями и критиками… Ну а в целом это – убогая беллетристика для обывателя наподобие творений Войновича или Ярослава Гашека, где кроме чёрных пародий на жизнь и нет ничего! Разочаровали меня, одним словом, и роман, и Булгаков, и Серёга мой – москвич богемный, эстетствующий…
«Мелкий он какой-то оказался на поверку, – подумалось с горечью про бывшего дружка, – мелкий и глупый – но с гонором. И кумиры его такие же – примитивные, плоские и недалёкие…»
––
*) Писатель Э.Лимонов хорошо однажды про это булгаковский “шедевр” написал: хочется привести его мысли в дополнение к авторским. Итак: «…«Мастер и Маргарита» – любимый шедевр российского обывателя… Во-первых, пародия на исторический роман. Во-вторых: это еще и плутовской роман, и очень-очень напоминает … «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В-третьих, добавлен небольшой элемент сверхъестественного… Смешав и встряхнув хорошенько все эти элементы, получаем очень лестную для обывателя книгу. В «Мастере и Маргарите» обыватель с его бутылью подсолнечного масла, с его ЖЭКами и прочей низкой реальностью присоединяется к высокой Истории, к Понтию Пилату и Христу. Ну как же обывателю не любить такую книгу?! Он ее и любит с завидным простецким задором. Хотя… книга получилась вульгарная, базарная; она разит подсолнечным маслом и обывательскими кальсонами. Эти кальсоны и масло преобладают и тянут вниз и Понтия Пилата, и Воланда, и Христа. С задачей создать шедевр – роман высокого штиля – Булгаков не справился, создал роман низкого уровня, сродни «Золотому теленку»… «Собачье сердце» – достаточно гнусный антипролетарский памфлет… сама интеллигенция может быть не менее противна, чем пролетариат. Самая удачная книга Булгакова, без сомнения, – это «Белая гвардия»…»
––
9
1980 год стал воистину ЧЁРНЫМ для меня – я прощался с родным и любимым Университетом, к которому прикипел за 5 студенческих лет как второму отчему дому, где у меня давно уже всё стало родным: и стены, и атмосфера, и люди. Признаюсь как на духу, что впоследствии я не встречал уже больше нигде подобных красивых людей – такого же высочайшего душевного и духовного качества и таких талантов!
Поэтому-то я и мотался потом ещё долго в Главное здание МГУ на Ленинских горах, благо было к кому: там товарищи-аспиранты мои учились, с которыми мы регулярно пьянствовали три года, молодость вспоминали свою, годы студенческие, беспечные… С научным руководителем я тоже потом встречался лет пять или шесть – до горбачёвского в Кремль прихода. Но больше всех – с Беляевым Николаем виделся, по которому страшно скучал, который стал мне воистину вторым родным братом на мехмате.
Но приезжая домой к Коле, я там постоянно Серёгу встречал, который, как я уже говорил, вцепился в него мёртвой хваткой во время учёбы. И не отпускал – держал крепко. А Коля мой был почему-то этому рад: необычайно добрый, податливый и без-хребетный, он словно бы нуждался в таком поводыре, хищном, сверх-волевом и цельном.
Серёга это чувствовал, свою над человеком власть – и пользовался Колей по-максимуму: превратил его квартиру в свою, жил и гулял там неделями и месяцами. На это не повлияла даже женитьба Беляева, потому как друг-Серёга долгое время был для него дороже жены. Ибо жена – для постели служит на первых порах, для секса, а друг – для души и сердца.
Жена, понятное дело, сильно обижалась на это, пыталась с первого дня Серёгу от своего суженого отбить и от дома навсегда отвадить – но всё без толку. Даже и угрозой развода она не могла Николая пронять и привести в чувства: так он крепко к прохиндею-Серёге всем существом прикипел, что было и не оторвать никакими силами.
Супруга Николая Света пыталась и меня к этому благому делу подключить, чтобы и я как-то повлиял на Колю на правах товарища. Не раз жаловалась на кухне, когда мужа не было дома, что наглец-Серёга её уже задолбал, до печёнок достал своей несусветной наглостью и хамством. Прицепился, мол, к их молодой семье как клещ кровожадный или вампир – и сосёт их обоих безбожно и беспрестанно. Все юбилеи и дни рожденья и свои и друзей отмечает у них, живёт у них по неделям как барин, объедает и обпивает, деньги их как свои собственные тратит, вино их домашнее пьёт, варенье трескает за обе щеки, которое они с дачи привозят. А у него, жаловалась, никогда денег нет: и куда, удивлялась, он их только девает, жучила!!!…
Я слушал бедную Светлану, помнится, всем сердцем сочувствовал ей, жалел, – но что я мог, посторонний человек, сделать? Я сидел с понуро опущенной головой и думал, как чудно устроена всё-таки наша жизнь, чудно, нелогично и несправедливо. Мы, русские люди, если сдружаемся с кем – последнюю рубашку другу готовы отдать, крестик с груди снять и подарить на память. Так мы интересно и неразумно устроены! А евреи, наоборот, сдружаются исключительно для того только, чтобы эту нашу последнюю рубашку взять вместе с крестиком.
И замечательного русского философа Розанова я тогда отчего-то вдруг вспомнил, его размышления про невесёлую и обременительную для нас, гоев, еврейскую дружбу.
«С евреями ведя дела, чувствуешь, - писал Василия Васильевича в “Опавших листьях”, – что всё “идёт по маслу”, всё стало “на масло”, и идёт “ходко” и “легко”, в высшей степени “приятно”. (…) Едва вы начали “тереться” около него, и он “маслится” около вас. И всё было бы хорошо, если бы не замечали (если успели вовремя), что всё “по маслу” течёт к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться “в себе” и “один”, остаться “без масла”, – вы видите, что всё уже вобрало в себя масло, всё унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталанным, обездушенным, одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с “маслом” и евреем, – и он охотно даёт вам её: досасывая остальное из вас – пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирен и повторяется везде – в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей САМ не только бесталанен, но – ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой – он пересасывает в себя полноту всего. Без воображения, без МИФОВ, без ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, БЕЗ ВСЯКОГО чувства природы, без космогонии в себе, в сущности – БЕЗЪЯИЧНЫЙ, он присасывается “пустым мешком себя” к вашему бытию, ВОСТОРГАЕТСЯ им, ЛАСКАЕТСЯ к нему, искренне и чистосердечно восхищён “удивительными сокровищами в вас”, которых сам действительно не имеет: и начиная всему этому “имитировать”, всему этому “подражать” – всё искажает “пустым мешком в себе”, своею космогоническою БЕЗЪЯИЧНОСТЬЮ и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми ПУЗЫРЯМИ, вашу ПОЭЗИЮ – ПОДДЕЛЬНОЮ ПОЭЗИЕЮ, вашу философию – философической риторикой и пошлостью (…)