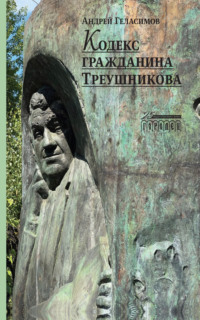Полная версия
Чистый кайф

Андрей Геласимов
Чистый кайф
Автор «благодарочки» – Борис Геласимов
Чистый кайф / Андрей Геласимов. – М.: ИД «Городец», 2020.
© Геласимов А., 2020
© ИД «Городец», 2020
* * *Треушников Антон, тебе спасибо за то, Что вдохновил на создание этого всего.
За диалог о здоровье – Треушниковой Наталье.
Теперь эта тема в романе Звучит действительно реально.
Вадику QП Карпенко и Грузу Олегу – За то, что помогли создать Ростов будто из лего.
Майку – за образ Майкла, С которого в романе начался весь лайф.
Вникай, Мой самый чистый кайф.
Седому – за помощь по теме зависимости И за поездку в Святогорский монастырь.
О том, как жгли мосты и как бывало жестко.
Виталию Буслаеву – за его воспоминания О лихих девяностых.
За помощь в работе во время тура – Мите Миловзорову, Спасибо, было здорово.
Николаю Дуксину – за все подробности, За сложности, за тонкости концерта в Олимпийской плоскости.
За монастырскую часть, за вдохновение на написание – Спасибо отцу Макарию.
Gazgolder – респект за крутизну, Басте – за «Чистый кайф», «Сансару» и «Мою игру».
За непотопляемый позитив – Ноггано.
Василию Вакуленко – за то, что он такой как есть, Другого нам не надо.
Ростову-папе – за всех его детей.
Рэпу – за то, что он по-лютому продолжает переть!
Часть первая
Пистолетто
Ноябрь 2016, Дортмунд, Германия
На саундчек заявилась полиция с большой собакой. Митя пытался протестовать, но немцы его не слушали.
Овчарка нюхала наши колонки и кофры. Леша Джей нервно хихикал и предлагал показать ей голый зад. Саша лупил по своим барабанам. Аня распевалась. Немцы ждали, когда псина что-нибудь найдет.
Овчарка, конечно, мне нравилась. Я в детстве сам хотел такую. Но сейчас это был беспредел.
– Вы охуели? – задал я невинный вопрос начальнику этой прекрасной собаки. – У нас концерт через два часа. Последний концерт в туре.
Щуплый Джей, всегда готовый умереть за свободу, выкрикнул что-то злое и радостное из-за своего пульта. В шестидесятые он бы точно мутил где-нибудь в Боливии с Че Геварой и его братвой, однако припоздал родиться и стоял теперь против мировой тирании в одного.
– Дословно переводить? – вежливо спросила у Мити нанятая им девушка из местных русских.
– Нет, – сказал он. – В общих чертах.
Оказалось, что полицию вызвала хозяйка зала.
– Как так? Зачем?
– Имеет право, – пояснил через переводчицу герр полицист. – Это ее собственность.
– Митя, – с чувством сказал я. – Мы ее чем-то обидели? Или она видела у музыкантов дурь?
– Если бы видела, – резонно ответил он, – собака бы уже чего-нибудь нашла.
С этим нельзя было не согласиться. Псина спокойно сидела посреди сцены и улыбалась во весь свой овчаркин рот.
– Тогда пойдем к этой фрау, – объявил я. – Пусть объяснит за кипиш.
Фрау сидела посреди огромного офиса, который больше походил на гараж. Во всяком случае, рядом с ее столом был припаркован зачетный спортбайк. Еще один мотоцикл стоял у нее за спиной. По ходу, она сюда прямо на них и въезжала. Половину стены слева от фрау занимала широченная гаражная дверь. Повсюду висели фотки боксеров и бойцов ММА с разбитыми рожами. Одна такая фотка стояла перед хозяйкой на столе. С нее улыбался пацан лет восемнадцати, державший над головой чемпионский пояс.
– Митя, мы что, в боксерском клубе выступаем?
Он заторопился:
– Ты знаешь, она сама на нас вышла. Мы начали подбирать залы, позвонили паре владельцев, но тут она предложила свой.
– И чего?
– По цене было пиздец как круто.
– Стопэ, братан, – сказал я. – То есть фрау хотела, чтобы я читал у нее свой рэп, сделала большой скидос по аренде, а потом сама же пригласила ментов?
– Толян, я понимаю – нестыковочка получается, но давай, может, у нее спросим.
Я посмотрел на фрау, которая, скрестив на груди руки, спокойно дожидалась, когда мы заткнемся и поговорим с ней на ее языке.
– Давай, – сказал я.
– Госпожа Штайнбах, – начал Митя, глянув на переводчицу. – У нас, кажется, возникло недопонимание…
– Попроси их уйти, – сказала вдруг немочка по-русски, глядя на меня сквозь огромные темные очки и не дав нашей переводчице даже приоткрыть рот.
Мы с Митей переглянулись, и я кивнул. Когда они вышли, русская фрау за столом закурила и молча уставилась на меня.
– Ну? – спросил я через пару секунд этого молчания.
– Что «ну»?
– Может, объясните свои непонятки?
Она усмехнулась, выпуская дым:
– А я-то с чего буду объяснять? Это же ты ко мне пришел. Сам и говори.
Я хмыкнул и плюхнулся в широкое кресло напротив нее.
– Хорошо. Вы так со всеми музыкантами поступаете?
– Как?
– Полицию вызываете для обыска перед концертом.
Она подумала секунду и помотала головой.
– Нет, только с тобой.
– Да? Это почему, интересно?
Она пожала плечами:
– Потому что ты первый музыкант, который здесь выступает. У меня, вообще-то, боксерский клуб, если ты не заметил.
Она обвела рукой фотки на стенах.
– Послушайте, – начал я. – Митя мне только что сказал, что вы сами предложили…
– Я слышала, что он сказал, – перебила она меня. – Толик, я не глухая. А вот ты, похоже, слепой.
Фрау сняла свои темные очки, закрывавшие половину лица, и слегка наклонила голову набок.
На меня смотрел человек из такого далекого и такого невозможного прошлого, что поверить в это мог бы, наверное, только вконец обдолбанный нарик.
– Не употребляешь больше? – спросила она. – Я ведь из-за тебя одного полицию вызвала. Мне тут проблемы ни к чему.
– Майка… – выдавил я. – Ты как это?.. Ты откуда?..
* * *Тогда в Ростове, больше двадцати лет назад, из-за Майки замутилась реальная жесть. Память о ней вытравливал годами. Теперь все это, конечно, нахлынуло.
В отжившем, сука, сердце ожило.
Поэтому концерт пролетел как в тумане. Мы работали четко, все шло своим порядком, но перед глазами мелькали не только руки всех этих ребят из фан-зоны.
Я снова видел дебильного Майкиного брата Дёму, перепачканного в чужой крови Вадика, ростовскую братву девяностых, рыбок пираний в городском бассейне и маму со шприцем в руке.
Все это перемежалось образом новой немецкой Майки – с мотоциклами, боксерами и фоткой ее сына на столе. Она им очень гордилась. Это я понял. Майкин сын – чемпион. Этого она и хотела от жизни. Чемпионства.
А нас держала за лохов.
Но ментов местных вызвала, конечно, чтобы отомстить.
Того, что я с ней тогда сделал, не прощают. Никто бы не простил.
– Бля! Держи его! – заорал вдруг из левой кулисы Майкл.
Вот тут я вернулся в реальность. По сцене ко мне бежал толстый немец в белой футболке, а наперерез ему летел Миха. У немца рожа счастливая, он чует – сейчас будет тачдаун.
Но нихуя. От Майкла не убежишь. Он не таких ловил.
Бум! Столкнулись как два хороших регбиста. Зал заревел.
Надо бы спецом время от времени выпускать такого кабанчика. Народ любит махач. И Майклу тут равных просто нет. Сколько он их отпиздил, пока не присел за случайное убийство?
– Толян, прости, больше не повторится!
Да нормально все. Я читаю. Даже не сбился с дыхания. Главное – про Майку и про Ростов перестал думать.
Фан-зона поняла, что трек последний, и завела свое:
– Бу-стер! Бу-стер! Бу-стер!
Это значит – пора валить. Стартовый ускоритель свою задачу выполнил.
По пути со сцены заплутали чутка. Митя какой-то поворот перепутал, и мы залетели в тупик с огромными кофрами.
– Митя! Сусанин, бля!
Снаружи оказалось прохладно – почти декабрь. Воздуху на пороге маханул с духоты – как водочки уебал.
– Успеем?
– Конечно, Толян! Я водителю сказал, чтобы пёр под двести.
– А камеры на дорогах?
– Заплатим все штрафы, не проблема. Вылет через полтора часа. Должен успеть.
Я упал на заднее сиденье. Литовец наш за рулем смотрит на меня в зеркало.
– Ну что, Шумахер? – Я ему подмигнул. – Давай, братишка, жми на свою педальку. Меня дома ждут.
И он нажал. Минут через пять этой гонки по ночным улицам у меня в кармане ожил телефон.
– Привет, папа! – с экрана засветилось лицо дочки. – Как дела?
– Нормально, родная. Ты почему не спишь?
– Я уже легла, но потом придумала для тебя новое имя. Захотела сказать.
– Да? Ну, говори.
– Ты Папа-скайп.
– Ух ты…
– А еще Папа-фейстайм.
– Ничего себе…
– И Папа-вацап!
У нее лицо счастливое, как на днюху. Конечно… Сама такое придумала.
– По-моему, отличные имена.
– Правда? Тебе нравятся?
– Просто огонь.
– Я тоже сочиняю! Как ты!
– Нет, родная, ты намного круче. Мне такое не придумать ни в жизнь. Я тупой, ты же знаешь.
Она засмеялась, поцеловала ладошку и ткнула ею в экран.
– Пока, папа! Мы тебя ждем.
– Спокойной ночи. Утром приеду.
Я убрал телефон, отвернулся к окну и снова стал думать про Майку. Теперь про нее уже невозможно было не думать.
И про Ростов.
* * *Май 1996, Ростов-на-Дону
В Чечне дело к тому времени шло на спад, но пацанов битых по ростовским госпиталям было еще навалом. Когда мы вышли из перевязочной, у двери их толпилось человек пятнадцать. Ждали своей очереди. У кого рука, у кого нога, у кого что. Перед отцом расступились молча, никто по уставу не приветствовал. На районе рассказывали, как офицеры в Чечне лютуют с солдатами. Понятно, что особой любви к звездам на погонах тут не наблюдалось.
– Ты куда? – буркнул он, увидев, что я повернул направо. – Выход не там.
– К Тагиру в палату зайду. Я обещал.
– Я тебе зайду! – Он схватил меня за рукав и потащил влево по коридору. – Я тебе так зайду – вторую руку лечить придется! Ты меня понял?!
Пацаны у перевязочной покосились на нас, однако ни зависти, ни сочувствия в их взглядах я не заметил. Офицерский сынок для них был такая же мерзота, как сам офицер, если не хуже. Капитана РВСН в отцы себе точно здесь никто не хотел. Генерала, наверное, еще можно было, но и генеральских детей, начиная с девяносто четвертого, в Чечне тоже побило немало.
За воротами госпиталя нас с товарищем капитаном терпеливо ожидал целый табор солдатских мамок. Кое-кто из них был с детьми. Мелких они притащили с собой со всех концов необъятной, видимо, чтобы разжалобить выходящих из госпиталя офицеров. А может, просто дома оставить не с кем было. Неизвестно ведь насчет папашек всех этих битых пацанов – мамка, она и есть мамка, она по-любому ждать и рваться к тебе будет, из Тюмени в Ростов пешком по шпалам пойдет. А папашка морду пузырем надул – и в сторону. Ему – что есть сын, что нету. Призвали его там защищать конституционный строй, не призвали – это его проблема. Не в то время родился, надо было головой думать.
Так что мужичков среди этого табора особо не замечалось.
Но моему товарищу капитану вся эта компания была абсолютно до звезды. Он к ним привык уже, к этим мамкам, за годы долгой и суровой службы. У какого КПП их нет?
– Слышь, – говорит он мне и резко так за рукав останавливает. – Я не понял – у тебя кто отец?
Я стою перед ним и думаю: «Та-ак, у нас теперь еще и с памятью проблемы».
В соседней палатке с пивом Юру Шевчука включили про осень.
– Ты бы завязывал пить, – говорю, – товарищ капитан. А то гнать уже начал даже не по синьке.
– Рот закрой, – это он мне. – Ты, если что, помни – кто отец твой.
Я говорю:
– Я помню. У нас тут у всех Ростов – папа. Если что.
Он мне на это хотел по уху зарядить, но тут его настигли мамки. Они, в принципе, сразу к нему двинулись, когда мы из ворот вышли, однако товарищ капитан был так увлечен вопросами выяснения родства, что подхода женских вооруженных сил не заметил.
Вооружены они были чумазыми детишками, пакетами с едой и фотками своих пацанов, которых не выпускали к ним из госпиталя. Шевчук невдалеке продолжал лирическую тему про осень.
– Товарищ офицер! Товарищ офицер! – загомонила эта не большая, но сплоченная бедой армия.
Если бы Николаевна не грузила меня с детства уроками музыки и своим дебильным аккордеоном, я бы точно заделался в художники. Особенно если бы еще рисовать умел. Потому что здесь перед госпиталем нас окружили такие мамочки, такие лица, что бедный Рембрандт, или кто там, удавился бы от зависти в своей Голландии.
Деревенские перемешались с городскими, молодые со старыми, красивые со страшными, и все оказались такими молодцами, что товарищу капитану не то что слинять – ему продохнуть не осталось мазы. Они реально были самых разных возрастов. У одних в этом госпитале парился уже третий или, может, четвертый пацан, у других, по ходу, первенца загребли. Да не просто загребли, а сразу на войну пристроили. Пока он детство еще не забыл – когда автомат был деревянный, штаб – здоровский, враги – немцы, а «войнушка» означало совсем не то, что теперь. И от нее было весело. Во всяком случае, ни зачисток, ни отрезанных голов, ни раскатанных танками в лепешку человеческих тел. На такое у пацанов за гаражами никакой фантазии бы не хватило. Жизнь, как выяснилось, игры складывает намного круче.
Мамки попроще вели себя гораздо бойчей. Они осадили моего товарища капитана плотным кольцом, и дамам поинтеллигентней оставалось только тянуть свои фотки через их головы и плечи. Это не всегда нравилось передним мамкам, поэтому пацаны на снимках из второй линии время от времени летели в ростовскую пыль.
Товарищу капитану надо было радоваться, что его окружили одни приезжие. Если бы у госпиталя собралась такая же толпа местных женщин, явившихся к своим битым ребятишкам, тут не только одинокому офицеру – тут и целому КПП досталось бы на всю оставшуюся жизнь. Снести бы, может, его не снесли, но помяли бы тех, кто внутри, основательно. Хорошо хоть больничка рядом – подлечили бы сразу, если что. Это еще не учитывая подмоги ростовских бабуль. Это если они дома останутся. За внучком не придут. Потому что, если придут – тогда точно всем геройская смерть.
– Товарищ офицер! Володя Синичкин, Майкопская бригада! Скажите – как он?!
– Сеня Смирнов! Петроковский полк!
– Леша Потапенко! Можно к нему?!
– Толик!.. Толик!.. Толик!..
Мамки кричали так громко, что фамилия Толика никак не долетала из задних рядов, и от пацана оставалось одно имя.
– Женщины!!! – заорал наконец в ответ мой товарищ капитан. – Не наседаем, женщины! Базар прекращаем!
Они смолкли.
– Объясняю: к этому госпиталю я не имею ни малейшего отношения! Про ваших сыновей ничего не знаю, но могу вас уверить, что об их здоровье заботятся лучшие специалисты. – Он обвел командирским взглядом мгновенно притихшую толпу. – Все понятно?
Одна из них как школьница подняла руку и смотрит на него испуганно – боится, что накричит.
– Слушаю вас, – разрешил он.
– Нам ведь не говорят ничего, – заторопилась она. – И к ребятам никого не пускают. Мы не знаем, что там и как. Спасибо хоть от ворот не гонят. А на вас – погоны…
Этим она его проняла. Тон вдруг сменил на человеческий.
– Поймите, женщина, я зашел в госпиталь по личному делу. Семейные обстоятельства…
– У нас тут у всех семейные обстоятельства, товарищ офицер. Семейные – дальше некуда. Вы посмотрите на сына моего, может, узнаете? Может, видели сейчас там? Мне бы знать – ходит он или нет хотя бы.
Она протянула ему фотку, и все остальные как по команде протянули свои.
– Нет, – он покачал головой и снял фуражку. – Вашего я не видел, простите.
Когда отошли чуть подальше, он фуражку снова себе на башку приспособил. А так порядочно шел с ней в руке, репу поглаживал. Видно было, что западло ему стало перед мамками. Хоть и капитан. И вроде как фасон держать должен.
Тут я, конечно, не удержался.
– Вот видишь, – говорю ему. – Ты насчет отцовства кипишил, сына хотел, а там у них вон сколько сыновей в больничке бесхозных. Выбирай – не хочу. Покоцанные, правда, чутка.
Он остановился и смотрит на меня.
– Ты дурак, нет?
Я говорю:
– Конечно, дурак. Интересно – в кого только.
Он усмехнулся так криво и головой покачал:
– Ну, уж по-всякому не в Тагира.
После этого до самого дома мы с ним уже не разговаривали.
* * *Отца я впервые увидел, когда мне исполнилось семь. До этого был чеченец Тагир. Как так получилось и откуда он возник между отцом и отцом – мама никогда не говорила. Мы с братом тоже особо не спрашивали. Тагиром нельзя было не восхищаться, невозможно было не любить его, а когда кого-нибудь любишь, разве будешь спрашивать – откуда ты взялся?
Когда вернулся отец, Тагир, не сказав ни слова, просто встал и ушел. Он всегда так поступал. Твердо и ясно. И бесповоротно. Сколько я его потом ни искал – бесполезно. Никакой ниндзя так не исчезает. Хоть обычный ниндзя, хоть черепашка. У нас с братом их игрушечных три штуки было. Тоже пропадали время от времени. То Рафаэль, то Микеланджело. Но потом обязательно находились. А тут – ни в какую.
И вот сегодня в госпитале вдруг Тагир. Идет по коридору навстречу такой, улыбается. Я думал – это мне от боли показалось. Или от их колес. Но нет, ни фига. Обнял меня осторожно и даже отцу руку пожал. Сказал: «После перевязки зайди ко мне в палату».
А я не зашел. Товарищ капитан не пустил.
– Ты это, – заговорил он на подходе к дому. – Мне-то ладно про свой огнестрел пургу гонишь, а вот с Николаевной как разойдешься? Думаешь, она поведется на твой прогон насчет ружья у друга на даче?
Здесь он был прав. Меня и самого это напрягало по дороге из госпиталя. Потому что с Николаевной лучше было не шутить. Правда о том, что произошло, разумеется, исключалась, а любой развод она выкупала на раз. Серьезные дяди из фильмов про ЦРУ должны были толкаться не у себя в Лэнгли, а у нас на лестничной клетке, чтобы заманить ее на работу. Никакой детектор лжи им больше бы не понадобился. Датчики, психологи, аналитики – все это детский лепет по сравнению с ней. У Николаевны был нюх. Она отличала вранье по запаху. Так что здесь получалась испанская вилка. Правду сказать было нельзя, а соврать невозможно.
– Намутим чего-нибудь, – сказал я товарищу капитану, входя в подъезд. – Ты главное веди себя поестественней.
Отец кивнул и зашагал следом за мной по ступеням. Первым в квартиру он заходить не хотел.
После семилетнего своего отсутствия и безраздельного царствования Николаевны в нашей с братом жизни он не то чтобы опасался ее, но предпочитал избегать спорных моментов. С ней считались не только у нас во дворе. В принципе, весь Рабочий городок знал, что ее лучше не тревожить.
Николаевна, Бабуля, Большая Ба – званий на районе у нее хватало, и каждое из них она несла с гораздо большим достоинством, чем товарищ капитан свои звездочки. Габаритов она была самых минимальных, чуть более полутора метров от пола, но «Большую Ба» никогда не принимала за насмешку. Во-первых, легкая ирония в Ростове – это признак настоящей любви и всеобщего уважения, а во‐вторых, там внутри своего крошечного тела она была настоящий гигант. Геракл старушечьего царства. Разница между видимым и невидимым в ней легко могла ввести в заблуждение неосторожного бедолагу, и тогда участь его становилась плачевной.
Лет пять или шесть назад Николаевна увидела однажды с балкона, как троица местных упырьков потащила за гаражи свою четырнадцатилетнюю ровесницу из соседнего дома. При этом намерения у них были явно не детские. Бабуля с ходу прихватила толкушку для пюре и уже через пару минут расколотила ею лицо одного из любознательных сластолюбцев в кровавое месиво. Ее метод заключался в отказе от всяких прелюдий. Она никогда не кричала, не угрожала, не предупреждала и не пыталась удержать злодея от того, что он задумал. Она просто появлялась из ниоткуда, а затем сильно и точно била в лицо. Как Бэтмен, но только с толкушкой. И это производило впечатление.
Когда тем же вечером мамаша бедолаги нагрянула к нам с жесткой предъявой, Николаевна, успевшая настряпать блинов для нас с братом и для обиженной девчонки, сначала приняла ее всем сердцем. Она не сразу поняла, кто это. А когда разобралась, прихватила за обесцвеченную химку обеими руками в муке и стала тягать по прихожей из стороны в сторону, приговаривая: «Это ты, значит, сучка, такую тварь на свет родила».
Тем и закончилось. Посрамленная защитница упырька забыла о своих предъявах и думала, как бы самой отойти без потерь, а мы втроем стояли на пороге кухни, глазели на этих титанов рестлинга, и в руках у каждого из нас был самый вкусный в Ростове блин – у меня с медом, у брата с маслом, а у девчонки с малиновым вареньем. От масла и меда, она сказала, ее пучит.
Короче, правду насчет моего простреленного плеча Николаевне говорить было нельзя. Она бы немедленно отправилась восстанавливать справедливость, и это кончилось бы неизвестно чем. Вернее, известно чем, но от этого на сердце становилось совсем тревожно. Врать тоже не имело смысла. Тупняк с Большой Ба не прокатывал. Оставалось одно.
Надо было сделать, как она любит.
* * *Ноябрь 2016, Дортмунд
Аэропорт оказался почти пустым. То ли Шумахер мой перестарался, и мы приехали слишком рано, то ли немцы по ночам очкуют летать. В любом случае до посадки на рейс особо занять себя было нечем, и я снова соскочил мыслями на Майку. Если бы не она, плечо мне тогда в девяностых скорее всего бы не прострелили.
В кафе негромко играла песенка «Мэкки-нож» на немецком. Забавно, как американцы отжимают по всему миру зачетные ништяки и присваивают их себе – будто там и лежало. Изначально-то эта вещь действительно звучала по-немецки. Ее, сука, придумали на немецком языке. А вот теперь – нет. Сплошной Луи Армстронг.
И немчура в пролете.
– С вас восемь евро пятьдесят центов, – по-русски сказал мне официант почти без акцента.
Умеют они нашего брата определить.
Николаевна эту музыку очень любила. Когда вручила мне дедовский аккордеон, хотела, чтобы я непременно зонги из «Трехгрошовой» научился играть. А на улице – лето. И занавеска на балконной двери пузырем. И мне десять лет. Пацаны под балконом орут: «Толян! Выходи!» Но я, сука, разучиваю Курта Вайля. Бабуля со своим недреманным оком сидит рядом, и ее нисколько не парит, что там за жизнь происходит во дворе. Все правильно – это ведь не ей кричат. Я жму на клавиши с надеждой, что они отвалятся, и думаю: «Блин, когда же ты помрешь?» А она в ответ на мои мысли: «Толик, у тебя всегда будет в жизни кусок хлеба».
Натерпелась в Киеве во время войны. Наголодалась.
Ну и повидала, конечно, там всякого. Но меня все равно немецкую музыку заставляла разучивать. Простила, видимо, немцам. Хотя, может быть, «Трехгрошовую» она любила именно из-за того, чего навидалась под ними в Киеве. Понятно, что бандитам и жульбанам в тот момент было самое раздолье. Прессануть немчуру и тех, кто вокруг них терся, получалось вроде как доброе дело. Хочешь не хочешь, а вот ты уже и герой для Родины. Отсюда романтический ореол, блатная романтика. Да тут еще и музыку про бандитов знатную этот самый Курт Вайль написал. Хоть и немец. Вот и попал Толик.
Сиди разучивай «Мэкки-нож».
Большая Ба, вообще, могла стать зачетным эмси. И на районе она была не одна такая. Если кто хоть раз бывал на ростовском рынке, тот знает, что здесь у каждой бабушки свой флоу. Эминем – не Эминем, Тупак – не Ту-пак, но нынешний рэперский молодняк любая бабуля с Ростова легко может задвинуть. У них, в отличие от этих глупых пацанчиков, есть вполне конкретная цель – продать тебе не жменю семян, за которыми ты заскочил, а ведро яблок, да мешок капусты в придачу. И поэтому у них такой флоу, что только в путь.
Очарованная бандитами своей лихой киевской юности, моя эмси Бабуля придумала для меня отморозка Пистолетто. Те ее жульбаны, прессовавшие в свои времена фашистов, ходили только с карманными стволами, и эти волыны крепко засели у нее в памяти. Так или иначе, но любой мой трек от лица балбеса Пистолетто Большая Ба всегда ждала и слушала с особым вниманием. Он ей нравился, этот дуралей. Особенно если у меня получалось круто. В этом смысле Пистолетто меня выручал не раз. Суровое сердце Николаевны таяло от его бандитских историй.
* * *Май 1996, Ростов-на-Дону
Короче, в подъезд мой товарищ капитан вошел с подстреленным Бустером – и даже не с Бустером, а с Бустером Хрю, потому что в комнате у меня круглый год был настоящий свинарник, – но вот на площадку нашего этажа он поднялся уже с комментатором Пистолетто. Во всей его, сука, красе. И красавчик Пистолетто готов был все откомментировать. Мутация ломанула быстрее, чем у сэнсэя Хамато Йоши, когда он превратился в могучую и мудрую крысу по имени Сплинтер. И никаких мутагенов не понадобилось. Жаль только, что товарищ капитан не стал черепашкой-ниндзя. Так бы мы вообще зажгли.