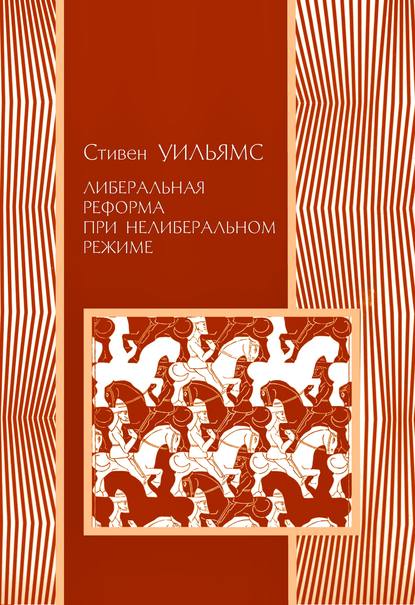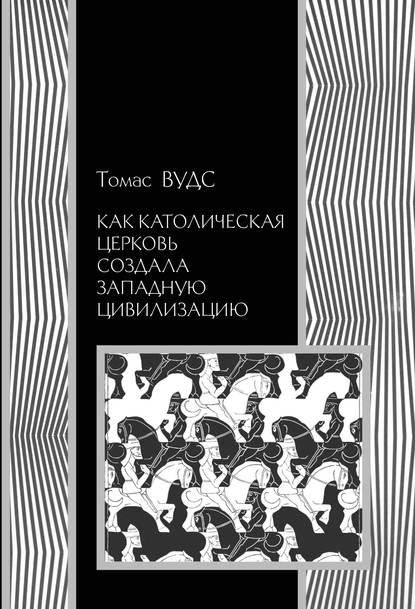Полная версия
Собственность и процветание
При Стюартах собственность в Англии стала объектом философских нападок. Сэр Роберт Филмер (1590–1653) доказывал в «Патриархе», что все английские законы, включая общее право, имеют своим источником королевскую волю, а сам король правит в силу божественного права. Именно поэтому подданные обязаны подчиняться его воле. Королевские прерогативы перешли к Стюартам от Адама, а собственность пришла вместе с территорией. Короли обладают исключительным господством надо всем и могут наделить собственностью кого заблагорассудится. По этой причине не может существовать всеобщего права собственности. Опустив в этом аргументе Бога, сторонники абсолютной власти в ХХ веке полностью согласились бы с его выводами.
Один ответ Филмеру написал Джеймс Тиррелл в 1681 году, а другой – старый друг Тиррелла по университету, Джон Локк. При этом Локк издал «Два трактата о правлении» только спустя десять лет после выхода «Патриарха». Из них пять лет он провел в Голландии в качестве политического беженца. Его покровитель граф Шафтсбери, один из организаторов партии вигов и оппозиции Карлу II, уехал в Голландию еще раньше и там скончался. Локк вернулся в Англию вскоре после Славной революции 1688 года, и в 1689 году опубликовал все свои основные работы.
В первом трактате Локк доказывает, что поскольку от Адама произошли все люди, на основании такого происхождения никто не может претендовать на право властвовать над другим. Во втором трактате он доказывает, что источником гражданского общества является не божественное право, а общественный договор. Единственной основой государственной власти является согласие людей. В конце трактата он в эвфемистических выражениях оправдывает восстание против власти. Если правители пытаются «отнять и уничтожить собственность народа или повергнуть его в рабство деспотической власти», народ, в свою очередь, «свободен от обязанности какого-либо дальнейшего повиновения и свободен обратиться к общему прибежищу, которое бог предусмотрел для всех людей против силы и насилия»[216].
Но наибольшую известность приобрело его обоснование собственности. Филмер выявил слабое место в теории общественного договора: если Господь отдал блага этого мира всем людям вместе, то движение от первоначального коммунизма к частной собственности требует, чтобы в прошлом каждый человек давал согласие на каждый акт приватизации, что абсурдно. Теория божественного права с подобной трудностью не сталкивается. Решение Локка состояло в том, что он индивидуализировал первоначальное право на собственность, связав его с трудом. Для каждого человека, рассуждает он, «труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью». Он добавляет, что «ведь именно труд создает различия в стоимости всех вещей»[217]. Очень похожий аргумент выдвинул Джеймс Тиррелл.
Работа Локка была опубликована анонимно, и автор заявлял всем, что не имеет к ней никакого отношения. «Он уничтожил все черновики и изъял из своих бумаг всякое внятное упоминание о ее существовании, структуре, публикации, печати и перепечатках», – написал Питер Ласлетт[218]. В библиотеке Локка книга была занесена в каталог как работа анонимного автора, «так что даже случайный посетитель не смог бы проникнуть в его тайну». Даже когда на трон взошла королева Анна и королевская власть была ограничена Биллем о правах, Локк держал своих родных в неведении. «Я нигде не встречал более ясного объяснения собственности, чем в книге под названием “Два трактата о правлении”», – писал он кузине.
Говорят, что «при Стюартах состоятельные люди дрожали за свою собственность»[219]. Но в XVIII веке работа Локка уже мало что могла добавить к режиму защиты собственности, который к тому времени сложился в Англии, хотя в предреволюционной Америке этот труд пользовался огромным влиянием. В то время собственность, надежно защищенная английским законом, меньше нуждалась в философской поддержке, чем сегодня, о чем свидетельствуют современные нападки на Локка. Но в свое время этот труд был рискованным предприятием. Локк был одним из немногих философов Нового времени, которым пришлось какое-то время писать невидимыми чернилами. Habeas Corpus был введен в действие в 1679 году, но за беседами Локка в оксфордской гостиной продолжали следить из Лондона.
Промышленная революция
В книге «Богатство народов» Адам Смит отмечает произошедшие в XVIII веке грандиозные изменения: «При современном состоянии Европы собственник одного какого-нибудь акра земли так же прочно владеет им, как собственник сотни тысяч акров». Сегодня мы настолько привыкли к тому, что наши права не зависят от нашего богатства, что необходимо некоторое усилие, чтобы осознать масштаб этого достижения. Но Англия в этом отношении опережала другие части Европы: «Прочность владения арендатора такова же, как и собственника». В других странах у фермера-арендатора могли «по закону отобрать арендуемый ими участок до истечения срока аренды»[220]. В Англии закон защищал арендатора. Последний мог возбудить судебный иск, добиться возмещения ущерба и вернуть собственность, а не получив удовлетворения, подать апелляцию на «неокончательное решение низшей судебной инстанции». Если стоимость аренды составляла не менее 40 шиллингов в год, она приравнивалась к безусловной собственности и давала арендатору право голоса. Это относилось даже к тем, у кого не было письменного договора об аренде. Смит добавляет: «Мне кажется, что нигде в Европе, кроме Англии, нельзя найти примера того, чтобы арендатор строил здание на непринадлежащей ему Земле, полагаясь на то, что чувство чести помещика не позволит ему воспользоваться таким значительным повышением стоимости его земли. Эти законы и обычаи, столь благоприятные для свободного крестьянства, вероятно, больше содействовали современному величию Англии, чем все ее хваленое торговое законодательство».
Итак, Англия процветала и опережала своих европейских соперников. Голландия, «зона свободного предпринимательства» в зарегулированной Европе XVII века, в XVIII веке утратила свое преимущество. Ее экономическое процветание поскользнулось на высоких налогах. Правящие круги Голландии считали, что не могут уменьшить налоговое бремя, потому что требовалось содержать империю; они не сумели понять долговременных последствий конкуренции со стороны более свободных портов. Эту ситуацию обсуждали английские путешественники. Джон Рэй, ботаник-изыскатель, писал, что в Голландии «все виды пищи – и мясо, и питье – очень дороги не из-за редкости этих товаров, а отчасти из-за больших налогов и акцизов, которыми они здесь обложены». По оценке Грегори Кинга, средний голландец платил налогов почти втрое больше, чем средний англичанин[221].
Повышению эффективности британского сельского хозяйства и экономики в целом способствовало и большое число огораживаний, проведенных во второй половине XVIII века, – только с 1760 по 1815 год парламент утвердил около 3000 законов об огораживании. Огораживания представляли собой систематическую политику приватизации общинных земель, в ходе которой общинные пастбища и поля обносились изгородью и делились между теми, кто имел на них право – лично или как член общины. Это существенно ослабило остроту «проблемы безбилетника» и отрицательных «экстерналий». На общих выгонах животные, например, заражали друг друга болезнями. «Все оценили преимущества огороженных компактных ферм под управлением одного человека перед разбросанными и фрагментированными участками на общих полях», – пишет историк экономики Дж. Мингей. Иногда целью было «избавление от последних следов общинной пашни и выгонов, или узаконение огораживания, уже проведенного владельцами земли, или ввод в сельскохозяйственный оборот облагороженных пустошей и беспорядочно прирезанных огороженных участков… [Результатом был] быстрый переход к условиям, необходимым для более эффективного хозяйствования»[222].
Согласно более распространенному толкованию, огораживание было чистым грабежом – «указами, посредством которых лендлорды жаловали себя народной землей как частной собственностью», по словам Маркса[223]. Мы снова сталкиваемся с его огромным влиянием. Его истолкование власти, которая цинично прячется под маской закона, было подхвачено Дж. Л. и Барбарой Хаммондами в работе «Сельский труженик, 1760–1832» (Village Labourer, 1760–1832, 1911). Они утверждали, что вся политика огораживания была направлена против мелких фермеров. Позднейшие исследования этого не подтвердили. В частности, Мингей показал, что, вопреки распространенным предположениям, не существует свидетельств о сокращении числа мелких фермеров в XVIII–XIX веках. Их правамине пренебрегали. Сам факт того, что в каждом отдельном случае для огораживания требовалось отдельное постановление парламента, показывает, с каким уважением общее право того времени относилось к правам мелких фермеров.
В книге «Возвышение и крах свободы договоров» (Rise and Fall of Freedom of Contract) Патрик Атия из Оксфорда добавляет: «В законах об огораживании существенна была не та готовность, с которой их принимал парламент, состоявший из собственников, а та скрупулезность, с какой он заботился о справедливой компенсации и соблюдении законных процедур. Законы об огораживании не сводились к простой конфискации прав на использование общественных земель, чего бедные в общем случае были лишены. Каким бы ни было отношение имущих классов к правам бедных, проявлявшееся в законах об огораживании, в нем никоим образом не было ни малейшего пренебрежения правами собственности»[224].
Это тот самый момент английской истории, когда закон был изменен во имя эффективности. Общинные права определены нечетко. Огораживание, таким образом, повышает «экономичность» сельского хозяйства. Огораживание к тому же увеличивает привлекательность инвестиций в развитие новых методов ведения сельского хозяйства, потому что доход здесь достается инвесторам. Расходы на дренаж и эксперименты с улучшением семян и пород скота резко выросли. Они способствовали успеху сельскохозяйственной революции, которая, в известном смысле, была частью более широко понимаемой промышленной революции.
А. В. Дайси отмечает, что, когда Вольтер прибыл в Англию, у него было чувство, будто «он попал из мира тирании в страну, где закон пусть и суров, но люди подчиняются законам, а не прихотям»[225]. Существует множество неопровержимых свидетельств в пользу того, что Англия стала первой страной, в которую пришла промышленная революция, именно потому, что здесь впервые был реализован принцип верховенства права, и законы Англии, «демократизировав» защиту собственности, стимулировали процесс создания богатства. Эти законы гарантировали предпринимателям и инвесторам, что их долгосрочным планам дадут осуществиться и что они смогут насладиться плодами своих трудов. Законы, позволявшие патентовать интеллектуальную собственность, были ценны, но менее важны, чем стимулы, создаваемые режимом защиты движимого и недвижимого имущества.
В трактате «Богатство народов» Адам Смит критиковал бесплодные ограничения производства и торговли – законы о цехах и корпорациях затрудняли мобильность «промышленников и ремесленников», а законы о бедных оказывали аналогичное влияние на рабочих, – но при этом Смит прекрасно понимал, в чем заключается главное преимущество Британии. В знаменитом рассуждении о меркантилизме он указывал, что «богатство и процветание Великобритании, столь часто приписывавшиеся этим [меркантилистским] законам, могут быть легко объяснены другими причинами». Прежде всего, полагал он, «та уверенность, которую законы Великобритании дают каждому человеку в том, что он сможет пользоваться плодами своего труда, сама по себе уже является достаточной для процветания любой страны, несмотря на те или другие нелепые правила о торговле; и эта уверенность была упрочена революцией [1688 г.] как раз около того времени, когда была установлена премия [за экспорт]. …В Великобритании труд беспрепятственно проявляет себя, и хотя он далек от того, чтобы быть совершенно свободным, он, во всяком случае, не менее и даже более свободен, чем в любой стране Европы»[226].
Речь здесь шла об Испании и Португалии. Они не только участвовали в «меркантилистской системе», которая уродовала европейскую торговую политику в XVII–XVIII веках, но испанский меркантилизм, кроме всего прочего, не «уравновешивается общей свободой и безопасностью населения. Труд там не свободен и не обеспечен, а гражданское и церковное управление как в Испании, так и в Португалии таковы, что их одних достаточно для увековечения их нынешней бедности»[227].
Большинство неэффективных ограничений торговли и промышленности либо отменили, либо позволили им зачахнуть самим: парламент скромно оценивал собственную роль. Уильям Питт-старший рассуждал в палате общин в 1766 году, что «парламент многих вещей делать не может. Он не может взять на себя роль исполнительной власти, не может назначать на должности, которые закреплены за короной. Он не может отнять ничью собственность без предварительного рассмотрения дела по существу, даже если речь идет о самом убогом крестьянине, как это бывает в случае огораживаний». Считается, что Питт-старший не провел через парламент ни одной законодательной меры. Дэвид Ландес восхищался тем, что Британия «сумела осуществить промышленную революцию, не прибегая к акционерным компаниям»[228]. Для создания таких компаний с правом продавать акции требовалось решение парламента, которое промышленным и торговым компаниям получить было очень нелегко.
Справедливости ради следует сказать, что идея laissez faire пришла на смену философии, требовавшей, чтобы государство осуществляло всесторонний контроль поведения граждан. Правительство продолжало защищать от насилия и мошенничества, но именно в эту эпоху было обнаружено, что рыночная конкуренция сама порождает мощные дисциплинирующие силы. Им подчинялись даже государственные финансы. Оказалось, что стоимость обслуживания государственного долга намного меньше, если по нему вовремя и надежно выплачиваются проценты. Процент по государственным займам упал с 14 % в 1690 году до менее 4 – в 1750-х. В 1880 году Арнольд Тойнби, дядя знаменитого историка, прочитал серию лекций о Промышленной революции и стал первым историком, который оценил ее как целостное великое историческое событие. (Маркс использовал выражение «промышленная революция», но не связывал его с конкретными событиями английской истории.) Сущность ее, писал Тойнби, заключалась «в замене средневековой системы регламентации, которой подчинены были до того времени производство и распределение богатства, конкуренцией»[229].
Этот взгляд вышел из моды. Но он бесспорно был точнее, чем мнение, распространившееся в ХХ веке, когда из-за веры в централизацию стало трудно вообразить, что простое невмешательство может сыграть какую-либо роль. В 1965 году Филлис Дин писала, что стало «принято» считать Промышленную революцию «стихийным событием». Ни одно правительство не в состоянии «обдуманно спланировать» развернувшийся в то время сложный процесс индустриализации. Она, по крайней мере отчасти, соглашается с Тойнби: «Нет ни малейших сомнений в том, что между 1760-м и 1850 годами масса правительственных правил и ограничений хозяйственной деятельности, многие из которых были приняты еще в Средневековье, были исключены из состава действующих законов»[230].
Тем временем экономисты, не замечая, что их аргументы образовали порочный круг, пытались объяснить экономическое развитие Англии с помощью данных экономической статистики о заработной плате, ценах, добыче угля, сбережениях и капитале. Но ничего определенного они из этого извлечь не сумели. Один набор цифр не может служить удовлетворительным объяснением другого. Математика не может возместить пренебрежение воздействием права.
Историк экономики Макс Хартуэлл сумел привлечь внимание к роли законодательства как важнейшего фактора Промышленной революции. Отметив, что современные авторитеты «скептически относятся к утверждению о важнейшей роли закона в развитии Промышленной революции XVIII века», он добавляет: «В обширнейшей литературе об английской Промышленной революции вы не найдете всестороннего исследования взаимосвязи между экономикой и правом, не найдете адекватного признания важности правовой системы для экономических перемен». Хартуэлл сумел превосходно сформулировать проблему изучения экономической истории: «Никто из историков, например, не дал детального описания этапов перехода к рыночной экономике в увязке с изменениями законов или правительственными мероприятиями; никто из историков… не проследил хронологию изменений в законодательстве и экономике. Не вызывает сомнений, что именно из-за этого пренебрежения остался незамеченным главный элемент, без которого невозможно понимание Промышленной революции. Мой тезис состоит в том, что в XVIII веке, в том веке, когда Англия была лидером индустриализации, самым уникальным и характерным отличием Англии от стран континента было английское право»[231].
Когда началось развертывание промышленной революции, на первых порах мало кто понимал, что происходит. Сам Адам Смит очень в малой степени осознавал происходящие изменения, и это при том, что в университете Глазго изготовлением инструментов занимался Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя. Адам Смит преподавал там моральную философию, но вскоре заинтересовался «законами» политической экономии.
Часть IV. От священного до нечестивого
Введение
То, что самый влиятельный трактат по экономической теории был написан в то время, когда принцип частной собственности достиг наивысшего авторитета, возможно, было чистой случайностью. В любом случае, Адам Смит не счел нужным много говорить об этом предмете. Впрочем, он, как и его современники, упомянул о «священном праве частной собственности». В политических дебатах принцип частной собственности находился вне критики. Поэтому и в экономических трактатах не было необходимости настаивать на том, что институт, защищаемый общим правом, является необходимым основанием экономического анализа. Ведь все были с этим согласны. Если и были сомневающиеся в достоинствах частной собственности, они предпочитали держать свои мысли при себе – по крайней мере, до появления на сцене Уильяма Годвина.
К середине XIX столетия ситуация кардинально изменилась. Над частной собственностью нависло тяжкое подозрение. Коммунистические теории утверждали, что ее следует полностью искоренить. Но созданная Адамом Смитом традиция оказалась очень влиятельна, и ко времени начала открытых нападок на собственность экономисты мало что сказали в ее защиту. Что касается англоязычных экономистов, то без преувеличения можно сказать, что собственность подверглась нападкам прежде, чем ее успели по-настоящему защитить. Она перешла из разряда вещей священных в нечестивые так быстро, что промежуточной стадии практически не было.
К концу XIX века между экономистами, по-видимому, сложилось молчаливое соглашение не касаться этого предмета. Считалось, что природа человека меняется и, когда изменения станут достаточно значительными, институт собственности сделается ненужным. Полагали, что он отжил свой век и в новом мире ему места нет. «Мы усвоили идею эволюции и считали непрекращающиеся изменения непременным условием жизни», – написал Ричард Или, первый президент и один из основателей Американской экономической ассоциации.
Глава 7. Недосмотр экономистов
В Британии времен Адама Смита критика частной собственности, как правило, просто не попадала в печать. Томас Спенс, школьный учитель из Ньюкасла, был редким исключением. В лекции, прочитанной в философском обществе, он утверждал, что земля общины «равным образом» принадлежит каждому, кто в нем живет. Когда Спенс опубликовал свою лекцию в виде брошюры, его исключили из общества. В XIX веке социалисты разрекламировали это незначительное событие, тем самым засвидетельствовав крайнюю редкость такой критики в те времена. Другим критиком был получивший впоследствии признание Уильям Огилви, учившийся в университете Глазго, когда там преподавал Адам Смит. В «Опыте о праве собственности на землю» (Essay on the Right of property in Land, 1782) он рассуждает, что все граждане, а не только немногочисленные собственники имеют право на полезность необработанной земли. Но он издал брошюру анонимно, так что его авторство долгое время оставалось тайной. В те времена «священное право собственности» было не пустым звуком[232].
Д-р Джонсон полагал, что опасность ошибочных мнений по некоторым вопросам – в частности, о собственности – так велика, что следует запретить передачу этих мнений даже собственным детям. В защиту общности имуществ выдвигается «столько же правдоподобных аргументов, как в поддержку самых ложных доктрин», – заявлял он. «Вы учите их, что сначала все было общим, и что ни у одного человека нет прав ни на что, к чему он не приложил собственных рук, и что человечество и сейчас следует или должно следовать этому правилу. Вот так, сэр, вы подкапываетесь под великий принцип общества – под собственность. А вы не думаете, что у судьи должно быть право остановить вас?»[233]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Arnold Toynbee, Civilization on Trial (New York: Oxford Univ. Press, 1948), 39.
2
Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers (New York: Random House, 1987), 16–17.
3
О подозрительности к аргументу Локка в пользу частной собственности см.: Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford: Clarendon Press, 1988); James O. Grunebaum, Private Ownership (London: Routledge & Kegan Paul, 1987); Alan Ryan, Property and Political Theory (Oxford: Basil Blackwell, 1984); Alan Ryan, Property (Milton Keynes: Open University Press, 1987); Andrew Reeve, Property (Basingstoke: Macmillan Education Ltd., 1986).
4
Dennis J. Coyle, Property Rights and the Constitution (Albany, N.Y.: State Univ. of New York, 1993), 3, 4.
5
Richard Pipes, “Human Nature and the Fall of Communism,” Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences 49 (January 1996): 48.
6
См.: Campbell R. McConnell, Economics: Principles, Problems, and Policies, 10th ed. (New York: McGraw-Hill, 1987), 38.
7
Armen Alchian, предисловие к кн.: The Economics of Property Rights, ed. Eirik Furubotn and Svetozar Pejovich (Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Co., 1974), xiii.
8
Steven N. S. Cheung, “The Contractual Nature of the Firm,” Journal of Law and Economics 26 (April 1983): 20.
9
Роберт Барро, интервью с автором, февраль 1988 г.
10
Robert Solow, in Arjo Klamer, Conversations with Economists (Totowa, N. J.: Rowman and Allanheld, 1983), 130–31.
11
Первоначально слово «экономия» относилось к решениям семьи относительно собственного имущества. «Политическая экономия», вошедшая в употребление в XVIII веке, распространила анализ на всю страну. Адам Смит писал, что «развитие благосостояния в разные периоды у разных народов» породило «неодинаковые системы политической экономии по вопросу о способах обогащения народа». Только в конце XIX века политэкономия уступила место экономической теории [economics]. «Основы экономической науки» Альфреда Маршалла были первой большой работой, в которой эта наука называлась по-новому. Это изменение совпало с использованием математических методов для решения ряда проблем, так что экономическая теория оказалась связанной не с политикой, а с наукой, и престиж ее повысился. С тех пор большинство экономистов не желало расставаться с новым престижем. Но жизненная важность политических и правовых институтов для экономической жизни заставляет признать, что лучше было бы вернуться к термину «политэкономия».