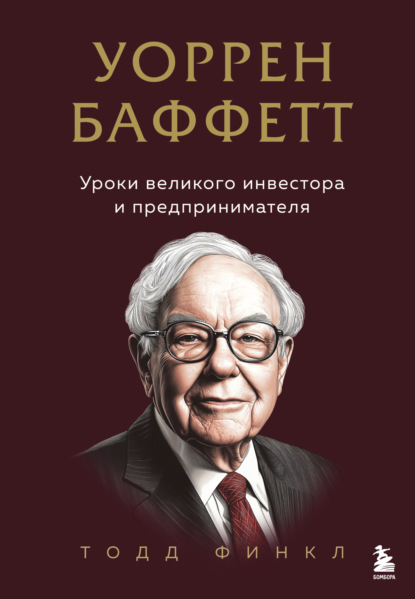Полная версия
Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем
Я поделился с ними своей Безумной идеей, и они выслушали ее с интересом, заварили кофе и пригласили меня присесть с ними. Намеревался ли я импортировать японскую обувь какой-то определенной модели? Я им ответил, что мне нравятся кроссовки «Тайгер», симпатичный бренд фирмы «Оницука» в Кобе, крупнейшем городе на юге Японии.
«Да-да, мы их видели», – кивнули они.
Я сообщил, что думаю отправиться туда, чтобы встретиться с представителями «Оницуки» лично.
«В таком случае, – сказали бывшие вояки, – тебе стоит узнать кое-что о том, как заниматься бизнесом с японцами. Ключевой момент здесь – не быть назойливым. Не наседай, как типичный американский придурок, типичный гайдзин – грубый, громогласный, агрессивный, не допускающий отказа на свой запрос. Японцы плохо реагируют на попытки что-то им навязать. Переговоры здесь, как правило, ведутся в мягкой, выразительной форме. Вспомни, сколько времени потребовалось американцам и русским, чтобы уговорить Хирохито сдаться. И даже когда он наконец сдался, когда его страна лежала в руинах, покрытых пеплом, что он сказал своему народу? Военная ситуация не сложилась в пользу Японии. Это культура уклончивости и опосредованности. Никто тебе здесь наотрез не откажет. Никто никогда не скажет прямо в лоб «нет». Но они и «да» не говорят. Они говорят так, будто кругами ходят, в их фразах не услышишь упоминания четкого предмета или объекта. Не отчаивайся, но и не задирай нос. Ты можешь, покидая местный офис, думать, что завалил сделку, когда на самом деле тот, с кем ты вел переговоры, готов на нее. Ты также можешь думать, уходя, что сделка заключена, тогда как на самом деле она была отвергнута. Никогда не угадаешь наверняка».
Я нахмурился. Даже при самых благоприятных обстоятельствах я не был хорошим переговорщиком. Теперь же мне предстояло вести переговоры в каком-то балагане с кривыми зеркалами. Где нормальные правила не действуют.
Час я провел, выслушивая эти обескураживающие поучения, а затем пожал руки бывшим воякам и попрощался с ними. Неожиданно почувствовав, что больше ждать не могу, что я должен как можно скорее начать действовать, пока их слова еще оставались свежи в моей памяти, я поспешил в гостиницу, упаковал все свои вещи в чемодан и рюкзак и позвонил в «Оницуку» с просьбой назначить мне встречу. В конце того же дня я сел в поезд, отправлявшийся в южном направлении.
Япония славится своим безупречным порядком и чрезвычайной чистотой. Японская литература, философия, одежда, домашняя жизнь – все это на удивление целомудренно и скромно. Все подчинено принципу минимализма. Ничего не ожидай, ничего не ищи, ничего не осмысливай – бессмертные японские поэты написали строки, которые, казалось, шлифовались и шлифовались до тех пор, пока не засверкали, как острие самурайского меча или камни в горном ручье. Стали безупречными.
Так почему же, с удивлением спрашивал я себя, этот идущий в Кобе поезд такой грязный? Полы в нем были завалены мусором и усеяны окурками. На сиденьях полно апельсиновой кожуры и выброшенных газет. Хуже того, все вагоны были битком набиты людьми, и едва можно было найти место, чтобы хотя бы стоять.
Я нашел болтавшийся у окна ремень-держак и, ухватившись, провисел на нем семь часов, пока поезд, раскачиваясь, медленно проползал мимо отдаленных деревушек и ферм размером не больше обычного заднего двора в Портленде. Поездка была долгой, но ни мои ноги, ни терпение сдаваться не думали. Я был слишком занят, вновь и вновь перебирая в памяти уроки, извлеченные из общения с бывшими вояками.
Прибыв на место, я снял небольшую комнату в дешевой рёкан. Встреча в «Оницуке» была назначена на раннее утро следующего дня, так что я сразу же улегся на татами, но был слишком взволнован, чтобы уснуть. Я проворочался на циновке большую часть ночи и на рассвете встал обессиленным. Побрившись, надел свой зеленый костюм от Брукс Бразерс и подбодрил сам себя напутственной речью.
Ты способен. Ты уверен. Ты можешь это сделать. Ты способен СДЕЛАТЬ это.
А затем отправился – но не туда.
Я явился в выставочный зал «Оницуки», тогда как меня ждали на фабрике «Оницуки» – на другом конце города. Я кликнул такси и помчался туда как угорелый, опоздав на полчаса. Не показав неудовольствия, группа из четырех невозмутимых руководителей фирмы встретила меня в вестибюле. Они поклонились мне, я – им. Один из них шагнул вперед, сказал, что его зовут Кен Миязаки и что он хотел бы провести меня для ознакомления по фабрике.
Это была первая обувная фабрика, увиденная мною. Для меня там буквально всё было интересным. Даже музыкально-мелодичным. Каждый раз, когда заканчивалась формовка очередного ботинка, металлическая колодка падала на пол с серебристым звоном, издавая мелодичное КЛИНЬ-клонь. Через каждые несколько секунд – КЛИНЬ-клонь, КЛИНЬ-клонь, концерт сапожника. Руководителям фирмы, похоже, эти звуки тоже нравились. Они улыбались, глядя на меня, и с улыбкой переглядывались между собой.
Мы прошли через бухгалтерию. Все находящиеся в комнате, мужчины и женщины, повскакивали со своих мест и стали кланяться, демонстрируя кей – жест почтения, в знак уважения к американскому магнату. Я когда-то вычитал, что английское слово tycoon («магнат») образовано от японского тайкун, что означает «военачальник». Я не знал, как выказать свою признательность их кею. Кланяться или не кланяться – в Японии этот вопрос всегда возникает. Я изобразил слабую улыбку, сделал полупоклон и продолжил движение.
Руководители предприятия сообщили мне, что они выпускают пятнадцать тысяч пар обуви в месяц. «Впечатляет», – отвечал я, понятия не имея, много это или мало. Они привели меня в конференц-зал и указали на кресло, стоявшее во главе длинного овального стола. «Мистер Найт, – произнес кто-то, – прошу сюда».
Почетное место. Еще больше уважения. Они расположились за столом, привели в порядок свои галстуки и уставились на меня. Настал момент истины.
Я репетировал эту сцену про себя столько раз – подобно тому, как я «прокручивал» дистанцию перед каждым своим забегом, еще задолго до выстрела стартового пистолета. В человеке существует некий изначальный стереотип сравнивать все – жизнь, бизнес, всевозможные приключения – с бегом наперегонки. Но такая метафора часто оказывается недостаточной. Она имеет свои границы.
Будучи не в состоянии вспомнить, что я хотел сказать и даже почему я там оказался, я сделал несколько судорожных вздохов. Все зависело от того, смогу ли я оказаться на высоте положения. Все. Если не смогу, если упущу шанс, буду обречен провести остаток своих дней, продавая энциклопедии, облигации взаимных фондов или какой-нибудь другой мусор, абсолютно мне безразличный. Я разочарую родителей, школу, родной город. Я самого себя разочарую.
Я взглянул на лица сидевших вокруг стола. Одну важную вещь я упустил, воображая себе этот момент. Я не представлял даже, насколько ощутимой будет Вторая мировая война. А война была прямо здесь, рядом с нами, между нами, добавляя подтекст к каждому произносимому нами слову. Всем добрый вечер – сегодня пришли хорошие новости!
И вместе с тем ее там не было. Благодаря стойкости, мужественному признанию полного поражения и героическому возрождению нации, японцы начисто выбросили войну из головы. Кроме того, эти руководители, сидевшие в конференц-зале, были такими же молодыми, как и я, и можно было понять, что они чувствовали – война не имеет к ним никакого отношения.
С другой стороны, их отцы и дяди пытались убить моих близких.
С другой стороны, прошлое было прошлым.
С другой стороны, вся эта тема побед и поражений, нависающая тучами над таким огромным числом сделок и усложняющая их, становится еще более запутанной, когда потенциальные победители и проигравшие оказываются вовлеченными, пусть через посредников или по вине своих предков, в глобальное пожарище.
От всего этого внутреннего спора, этой мечущейся из стороны в сторону путаницы у меня в голове появился какой-то тихий гул, я ощутил неловкость, к которой я не был готов. Реалист, сидящий во мне, хотел признать это, а идеалист, сидящий там же, – отбросить это в сторону. Я кашлянул в кулак. «Господа», – начал я.
Г-н Миязаки прервал меня: «Мистер Найт, на какую компанию вы работаете?»
«Что же, да, хороший вопрос».
По моим венам будто прокачали адреналин, я ощутил сильнейшее желание убежать и спрятаться, что заставило меня вспомнить о самом безопасном месте в мире. О родительском доме. Дом был построен несколько десятилетий тому назад людьми со средствами, людьми, у которых денег было куда больше, чем у моих родителей, а потому архитектор пристроил жилое помещение для прислуги к задней части хозяйского дома, и эта пристройка стала моей спальней, которую я завалил бейсбольными причиндалами, альбомами пластинок, плакатами, книгами – всеми свято неприкосновенными вещами. Я также украсил одну из стен своими blue ribbons – голубыми лентами, полученными в награду за выступления на беговой дорожке, – единственными вещами в моей жизни, которыми я беззастенчиво гордился. Итак? «Блю Риббон, – выпалил я. – Господа, я представляю компанию «Блю Риббон Спортс оф Портленд», штат Орегон».
Г-н Миязаки разулыбался. Другие руководители фирмы тоже. По комнате прокатился шепот. Блюриббон, блюриббон, блюриббон. Начальники сложили руки и вновь умолкли, по-прежнему сверля меня взглядами. «Итак, – опять заговорил я, – господа, американский рынок обуви огромен. И в значительной степени не освоен. Если «Оницука» сможет выйти на него, если «Оницука» сможет пробиться со своими кроссовками «Тайгер» в американские магазины, предложив цену ниже цены на кроссовки «Адидас», которые теперь носят большинство американских спортсменов, это могло бы оказаться весьма прибыльным предприятием».
Я просто дословно цитировал свою презентацию курсовой в Стэнфорде, приводя доводы и статистику, на изучение и запоминание которых я затратил долгие недели, и это помогло создать иллюзию красноречия. И я видел, что руководители компании были впечатлены. Но когда я подошел к концу изложения своей идеи, наступила щемящая тишина. Затем один из присутствующих прервал ее, вслед за ним – другой, и вот уже все они заговорили громкими, возбужденными голосами, перекрывая друг друга. Обращаясь не ко мне, а друг к другу.
Затем все резко встали и покинули зал.
Было ли это традиционным японским способом отказаться от Безумной идеи? Встать всем вот так и выйти? Я что, так запросто утратил все уважение – весь этот кей? Я что, сброшен со счетов? Что мне теперь делать? Мне что, просто… уйти?
Через несколько минут они вернулись. Они несли эскизы и образцы, которые г-н Миязаки помог разложить передо мной. «Мистер Найт, – обратился он, – мы давно подумываем об американском рынке». – «Да?» – «Мы уже продаем наши борцовки в Соединенных Штатах. На… э-э… северо-востоке. Но мы уже долгое время обсуждаем вопрос о поставке обуви другого ассортимента в иные регионы в Америке».
Они продемонстрировали мне три различные модели кроссовок «Тайгер». Тренировочные (повседневные) кроссовки для бега под названием Limber Up («Разминайся!»). «Симпатичные», – сказал я. Шиповки для прыжков в высоту Spring Up («Подскакивай!»). «Симпатичные», – похвалил я. И шиповки для метания диска Throw Up («Подбрасывай!»). «Не смейся, – приказал я себе. – Не смейся!»
Меня забросали вопросами о Соединенных Штатах, об американской культуре и потребительских тенденциях, о различных видах спортивной обуви, продающейся в американских магазинах спортивных товаров. Спрашивали, насколько велик, в моем представлении, американский рынок обуви, насколько большим он мог бы стать, и я ответил, что в конечном счете он мог бы достигнуть одного миллиарда долларов. До сих пор понятия не имею, откуда взял эту цифру. Они переглянулись между собой в изумлении. И продолжили засыпать меня вопросами. «Заинтересуется ли «Блю Риббон» тем, чтобы… представить кроссовки «Тайгер»? В Соединенных Штатах?» – «Да, – отвечал я, – да, заинтересуется».
Я поднял образец кроссовки Limber Up. «Это хорошие кроссовки, – сказал я. – Такие я смогу продавать». Я попросил их немедленно отправить мне образцы, сообщил свой адрес и пообещал выслать денежный перевод на пятьдесят долларов.
Они встали и низко поклонились. Я тоже низко им поклонился. Мы пожали руки. Я вновь поклонился. Они тоже вновь поклонились. Мы все улыбались. Войны никогда не было. Было партнерство. Братство. Встреча, которая, как я полагал, займет пятнадцать минут, продолжалась два часа.
Из «Оницуки» я отправился прямо в ближайший офис «Америкен экспресс», откуда отправил сообщение отцу: «Дорогой папа: срочно. Пожалуйста, срочно отправь телеграфом пятьдесят долларов в адрес «Оницука корпорейшн», Кобе».
Хоу-хоу, хии-хии… странные творятся дела.
* * *Вернувшись в гостиницу, я стал ходить кругами вокруг своей циновки татами, стараясь принять решение. Часть моего существа хотела рвануть в Орегон, дождаться посылки с образцами, оседлать свое новое деловое предприятие. Кроме того, я с ума сходил от одиночества, отрезанный от всего и всех, кого я знал. Случайно увидев газету «Нью-Йорк таймс» или журнал «Тайм», я чувствовал, как к горлу подкатывал комок. Я был как потерпевший кораблекрушение, кем-то вроде современного Робинзона Крузо. Я хотел вновь оказаться дома. Сейчас же.
И все же. Я все еще жаждал изведать мир. Я все еще хотел видеть, исследовать.
Любопытство одержало верх.
Я отправился в Гонконг и прошелся по сумасшедшим, хаотичным улочкам, ужасаясь при виде безногих, безруких нищих, стариков, стоящих на коленях в грязи рядом с вопившими о милостыне сиротами. Старики были немыми, но дети с воплями повторяли мольбу: «Эй, богатый человек, эй, богатый человек, эй, богатый человек». Они рыдали и шлепали ладонями о землю. Их плач не прекратился даже после того, как я раздал им все деньги, бывшие у меня в карманах.
Я пришел на окраину города, забрался на вершину пика Виктория и вглядывался вдаль, туда, где лежал Китай. В колледже я читал сборник афоризмов Конфуция: «Тот, кто передвигает горы, сначала убирает маленькие камешки». И теперь я с особой силой ощутил, что у меня никогда не появится возможности сдвинуть эту конкретную гору. Никогда не смогу я приблизиться к этой отгороженной стеной мистической земле, и мысль эта заставила меня почувствовать себя неизъяснимо грустно. Это было чувство незавершенности.
Я поехал на Филиппины, где творились такие же безумие и хаос. Но там бедность была гораздо страшнее. Я медленно, как в кошмарном сне, продвигался по Маниле, сквозь бесконечные толпы народа и не поддающиеся измерению заторы, направляясь к гостинице, в которой Макартур когда-то занимал пентхаус. Я восхищался всеми великими полководцами, от Александра Великого до Джорджа Паттона. Я ненавидел войну, но любил воинственный дух. Ненавидел меч, но любил самураев. И из всех великих ратных людей в истории я считал наиболее убедительным Макартура. Эти его солнцезащитные очки Ray-Bans, эта его курительная трубка из кочерыжки кукурузного початка – уверенности ему было не занимать. Блестящий тактик, мастер мотивации, да, кроме того, он еще и возглавил Олимпийский комитет США. Как его не любить?
Конечно, он был глубоко порочен. Но он знал об этом. «Вас помнят, – заявил он пророчески, – из-за правил, которые вы нарушаете».
Я хотел забронировать на ночь его бывший номер люкс. Но позволить себе такие расходы не мог.
Однажды придет день, поклялся я. Однажды я вернусь сюда.
Я отправился в Бангкок, где проплыл на длинной лодке с шестом через мутные болота до рынка под открытым небом, который показался мне тайской версией Иеронима Босха. Я ел птицу, фрукты и овощи, которых ранее никогда не видел и никогда больше не увижу. Мне пришлось уворачиваться от рикш, скутеров, мотоповозок, прозванных тук-тук, и слонов, пока я добирался до Ват Пхра Кео и одной из самых священных статуй в Азии – огромного шестисотлетнего Будды, вырезанного из цельного куска нефрита. Стоя перед ним и вглядываясь в его безмятежно-спокойное лицо, я спросил: «Почему я здесь? В чем моя цель?»
Я подождал.
Ничего.
Или же ответом мне было молчание.
Я поехал во Вьетнам, где улицы (Сайгона. – Прим. пер.) ощетинились штыками американских солдат и, казалось, гудели от страха. Каждый знал, что приближается война и что она будет уродливой до невозможности и совершенно другой. Это будет война по Льюису Кэрроллу, война, в ходе которой американский офицер объявит: «Мы должны были уничтожить деревню, чтобы спасти ее». За несколько дней до Рождества, в 1962 году, я отправился в Калькутту, где снял комнату размером с гроб. Ни кровати, ни стула – места для них не было. Лишь гамак, подвешенный над вспенившейся дырой – очком. И уже через несколько часов я заболел. Возможно, вирус, переносимый воздушным путем, или пищевое отравление. Следующие сутки я провел в полной уверенности, что не перенесу этого. Я знал, что умру.
Но каким-то образом все же собрался с силами, заставил себя вылезти из этого гамака и на следующий день уже спускался нетвердой походкой вместе с тысячами пилигримов и дюжинами священных обезьян по крутой лестнице храма Варанаси. Ступени вели прямо в горячие воды бурлящего Ганга. И, будучи уже по пояс в воде, я поднял глаза – мираж? Нет, посреди реки происходили похороны. На самом деле несколько похорон. Я видел, как скорбящие входили в реку и укладывали своих усопших близких на высокие деревянные похоронные дроги, а затем поджигали их. Меньше чем в двадцати шагах от этого действа другие люди спокойно купались. А другие утоляли жажду той же водой.
Упанишады призывают: «Веди меня от нереального к реальному», – так что я бежал от нереального. Я добрался до Катманду на самолете и прошел пешком прямо до белой стены Гималаев. На спуске я задержался на переполненной базарной площади (чоук) и с жадностью проглотил там миску с буйволятиной, обжаренной только снаружи и красной от крови внутри. Чоук, как я заметил, был заполнен тибетцами в сапогах с голенищами из красной шерсти и верхом из зеленой замши с загнутыми вверх носками, почти как полозья саней. Неожиданно я стал замечать, какую обувь носят люди вокруг меня.
Я вернулся в Индию, канун Нового года провел, слоняясь по улицам Бомбея, петляя и пробираясь между волами и коровами с длинными рогами, чувствуя, что у меня начинается раскалывающая голову мигрень, – от шума, запахов, красок и яркого света. Далее я продолжил свой путь, переехав в Кению, где совершил длинную поездку на автобусе в самую гущу бушей. Гигантские страусы пытались обогнать автобус, а аисты (скорее всего, это были фламинго, а не аисты. – Прим. пер.) размером с питбулей плавали буквально за окном. Каждый раз, когда водитель останавливался где-то на полпути в никуда, чтобы подвезти нескольких воинов племени масаи, в автобус пытались заскочить один или два бабуина, и тогда водитель и воины с мечами, похожими на мачете, бросались на бабуинов и преследовали их. Перед тем как выпрыгнуть из автобуса, бабуины оглядывались через плечо и бросали на меня взгляд уязвленной гордости. Прости, старик, мысленно отвечал я. Если б только это от меня зависело.
Далее был Каир, плато Гиза, я стоял рядом с кочевниками пустыни и их драпированными в шелк верблюдами у ног Большого сфинкса, и все мы, щурясь, вглядывались в его вечно открытые глаза. Солнце било лучами по голове, то же солнце, что обрушивало свой жар на тысячи тех, кто построил эти пирамиды, и на миллионы посетителей, приходивших сюда потом. Ни об одном из них ничего не осталось в памяти, думал я. Все – суета, говорится в Библии. Существует только настоящее, говорит учение дзен. Все – пыль, говорит пустыня.
Я направился в Иерусалим, к священной горе, на которой Авраам готовился принести в жертву сына, к скале, с которой Мухаммед начал свое восхождение на небеса. В Коране говорится, что скала хотела присоединиться к Мухаммеду и последовать за ним, но Мухаммед ступил на скалу и остановил ее. Отпечаток его стопы, как говорят, до сих пор виден на камне (изложение суры 17 из Корана дано автором неверно. – Прим. пер.). Был ли он босым или же обутым? В полдень я съел ужасный обед в темной таверне, в окружении чернорабочих, чьи лица были перепачканы сажей. Все выглядели донельзя уставшими. Они медленно жевали с отсутствующим взором, будто зомби. Почему мы должны так убиваться на работе? – спрашивал я себя. Посмотрите на лилии, как они растут… не трудятся, не прядут. И тем не менее живший в I веке н. э. раввин Элеазар бен Азария утверждал, что наша работа – самое святое, что есть в нас. Все гордятся своим ремеслом. Если Господь называет работу Своею, то человек тем более должен гордиться своим ремеслом.
Съездил я и в Стамбул, подсел на турецкий кофе, поплутал по извилистым улочкам, выходившим на Босфор. Останавливался, чтобы запечатлеть сверкающие на солнце минареты, прошел по золотым лабиринтам дворца Топкапы, резиденции османских султанов, где теперь хранится меч Мухаммеда. «Не спи хотя бы ночь одну, – писал Руми, персидский поэт, живший в XIII веке. – Тобой желаемое страстно само к тебе придет».
«Тепло душевное согреет, и ты увидишь чудеса».
Дальше – Рим, несколько дней провел, шляясь по маленьким трактирам, уминая горы макарон, заглядываясь на красивейших женщин и на самые красивые туфли из когда-либо виденных мною (римляне в эпоху цезарей верили, что если надевать вначале правый, а затем левый ботинок, это принесет процветание и удачу). Я внимательно осмотрел руины спальни Нерона, грандиозные развалины Колизея, необъятные залы и комнаты Ватикана. Избегая толпы, я всегда оказывался у входа на рассвете, намереваясь быть первым в очереди. Но очередей ни разу не случилось. Город оторопел от небывалого похолодания. Все достопримечательности оказались полностью в моем распоряжении.
Даже Сикстинская капелла. Оказавшись под потолком с фресками Микеланджело, я получил возможность сколько моей душе было угодно изумляться и удивляться. Я прочитал в своем путеводителе, что во время создания своего шедевра Микеланджело был в очень подавленном состоянии. У него болели спина и шея. Ему в глаза и на волосы постоянно попадала краска.
Друзьям он постоянно жаловался, что скорее бы с этим покончить. Если даже самому Микеланджело не нравилась его работа, думал я, на что же надеяться всем нам?
Я поехал во Флоренцию. Потратил несколько дней на поиски Данте, читая Данте, озлобленного ссыльного мизантропа. Мизантропия у него возникла до или после? Была ли она причиной или же результатом его озлобления и ссылки?
Я стоял перед Давидом, потрясенный выражением гнева в его глазах. У Голиафа не оставалось шанса.
Поездом добрался до Милана, интимно пообщался с Да Винчи, рассмотрел его красивые записные книжки и подивился его своеобразным навязчивым мыслям. Главная из них была о человеческой ноге. Шедевре инженерного искусства, как он сам ее называл. Произведении искусства.
Кто я такой, чтобы спорить?
В последний мой вечер в Милане я провел, слушая оперу в театре «Ла Скала». Предварительно я проветрил свой костюм от Брукс Бразерс и с гордостью носил его, оказавшись среди итальянцев, затянутых в смокинги, пошитые на заказ, и итальянок в платьях, усыпанных драгоценностями. Все мы с восхищением слушали «Турандот». В тот момент, когда Калаф затянул арию Nessun dorma: «Меркните, звезды! На рассвете я одержу победу, я одержу победу, я одержу победу!» – глаза мои наполнились слезами, и с падением занавеса я вскочил с места. Брависсимо!
Далее мой путь лежал в Венецию, где я провел несколько томных дней, ходил по следам Марко Поло и простоял, не знаю как долго, перед палаццо Роберта Браунинга. Если вы приобретете простую красоту и ничего больше, вы, пожалуй, будете обладать лучшим из того, что изобрел Бог.
Время мое истекало. Дом звал меня. Я поспешил в Париж, спустился глубоко под землю в Пантеон, слегка коснулся рукой гробниц Руссо и Вольтера. Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям. Я снял номер в захудалой гостинице, полюбовался на потоки зимнего дождя, заливавшие переулок, который был виден из моего окна, помолился в Нотр-Дам и заблудился в Лувре. Купил несколько книг в магазине «Шекспир и Компания» и постоял в том месте, где спали Джойс и Ф. Скотт Фицджеральд. Потом медленно прошелся вдоль Сены, остановившись, чтобы выпить чашечку капучино в кафе, где Хемингуэй и Дос Пассос читали Новый Завет друг другу вслух. В последний день я прогулялся по Елисейским Полям, отслеживая путь освободителей и все время думая о Паттоне. Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью.