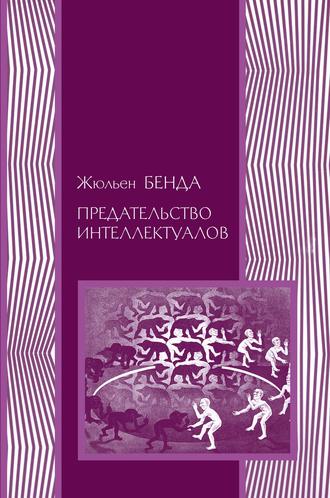
Полная версия
Предательство интеллектуалов
Идея порядка связана с идеей войны, с идеей несчастья людей. Интеллектуалы и Лига Наций
Государство, где водворился порядок, как я уже сказал, обнаруживает тем самым, что ему нужна сила и ни в коем случае не справедливость. Добавим, что подобное государство требуется для ведения войны. Вот почему те, кто призывают к нему, не перестают кричать, что государство в опасности. Так, «L’Action française» сорок лет вопила: «Враг у ворот; сейчас время повиновения, а не социальных реформ!», и точно так же немецкая автократия не переставала пугать грозящим рейху «окружением». По той же причине все защитники порядка были враждебно настроены к Лиге Наций, как организации, стремящейся покончить с войной. Ими двигал отнюдь не вкус к войне, не лишенная для них всякой привлекательности перспектива видеть, как убивают их детей или как увеличиваются в сотни раз их расходы; ими двигало желание сохранять всегда живым в глазах народа призрак войны, чтобы можно было держать народ в повиновении. Их мысль можно сформулировать следующим образом: «Народ больше не боится Бога, надо, чтобы он боялся войны. Если он больше ничего не боится, его невозможно больше сдерживать, а это смерть порядку».
В более общем плане, нынешние притязания народа на счастье, один из аспектов которых – упование на исчезновение войны, становятся пугалом для людей порядка. Тут они находят ощутимую поддержку в католицизме, по теологическим соображениям осуждающем в человеке надежду быть счастливым в нашем дольнем мире. Тем не менее любопытно наблюдать, как резко усиливает церковь это осуждение с установлением демократии (которую она в особенности упрекает в игнорировании догмата первородного греха[15]). Соответствующие католические тексты, относящиеся к предшествующему периоду, не столь выразительны. Невозможно отрицать, к примеру, что позиция Жозефа де Местра, провозглашающего, что война совершается по воле Бога и, следовательно, искание мира есть кощунство, никогда не была бы одобрена Боссюэ или Фенелоном, но что она теснейшим образом связана с возникновением демократии, т. е. с притязаниями народов на то, чтобы быть счастливыми, – притязаниями, которые, согласно де Местру, ведут народы к неподчинению[16]. Наполеон сказал: «Лишения – хорошая школа для солдата». Некоторые общественные партии охотно сказали бы, что это и хорошая школа для гражданина.
Оппозиция большей части французских интеллектуалов Лиге Наций – одно из тех явлений, которые приводят в замешательство историка, когда он думает о том, как поддержали бы учреждение такого рода Рабле, Монтень, Фенелон, Мальбранш, Монтескьë, Дидро, Вольтер, Мишле, Ренан. Ничто не показывает убедительнее, что пятьдесят лет назад традиция их цеха прервалась. Одна из главных причин этого – страх перед прогрессирующим духом свободы, овладевший буржуазией, поборниками которой интеллектуалы стали в столь значительном количестве.
Государство, сильное своим порядком, повторяем, требуется для ведения войны. И можно сказать, что оно ее вызывает. Государство, не знающее ничего, кроме порядка, есть род армейского государства, где война находится в возможности, пока однажды не разражается как необходимость. Именно это, как известно, произошло в фашистской Италии и в гитлеровском рейхе. Родство порядка и войны несомненно.
Сомнительные оговорки антидемократов. Опровержение одного высказывания Пеги
Интеллектуалы, о которых идет речь, с готовностью заверяют, что обвиняют они только «нечестную» демократию, не раз проявлявшую себя на протяжении последнего полувека, но признают демократию «честную и достойную». – Ничего подобного, принимая во внимание, что самая чистая демократия состоит – согласно принципу гражданского равенства – в категорическом отрицании иерархического общества, которого желают интеллектуалы. К тому же мы видели, что против безукоризненной демократии Бриссона или Карно они выдвигали не меньше обвинений, чем против демократии в Панаме или демократии времен Ставиского. Впрочем, их первосвященники, от де Местра до Морраса, никогда не скрывали, что осуждают демократию за ее принципы, каков бы ни был образ ее правления в действительности. В связи с этим следует пересмотреть одно высказывание, имевшее успех благодаря своей крайней простоте: будто все доктрины хороши в идеале (dans sa mystique) и безобразны в политике[17]. Я согласен, что доктрина демократии, высокоморальная в идеале, чаще всего совсем не такова в политике; но, полагаю, доктрина порядка не такова ни в политике, ни в идеале. Первая прекрасна в идеале и безобразна в политике; вторая безобразна и в том и в другом.
Порядок – «эстетическая» ценность
Порядок, как я уже сказал, есть ценность практическая. Некоторые из его служителей живо возразят, что они, напротив, отстаивают порядок – как бескорыстную ценность – во имя эстетики. И в самом деле, сильное своим порядком государство, образцом которого является абсолютная монархия, представляется им неким собором, где все части соподчинены между собой в соответствии с управляющим ими высшим замыслом. Следовательно, адепты данной концепции согласны, чтобы тысячи людей вечно гнили в эргастуле*, с тем чтобы сообща доставлять этим эстетам зрелище, приятное их чувствам. Это еще раз доказывает, насколько эстетическое чувство или претензия на обладание им может расходиться – чем оно охотно и хвалится – со всяким нравственным чувством[18]. Впрочем, демократия зиждется на идее, в высшей степени способной затрагивать эстетическое восприятие, – идее равновесия, которая, однако, будучи бесконечно более сложной, чем идея порядка, могла бы волновать лишь несравненно более развитое человечество[19].
Двойственность идеи порядка
Идея порядка обладает двойственностью, которую обычно не только используют те, кто прибегает к ней в своих целях, но и, похоже, совершенно искренне принимают честные умы. Один из этих последних[20] говорит о порядке как об идее, завещанной нам, по его словам, греками, и добавляет, не без некоторой правоты, что порядок есть норма, тогда как справедливость есть страсть. Напомним, что идея порядка, как ее понимали сыны Гомера, есть идея гармонии вселенной, в особенности вселенной неодушевленной, идея космоса, мира, – слово это обозначает нечто упорядоченное в противоположность беспорядочному. Высшая роль божества и его достоинство состояли, согласно греческим философам, не в сотворении вселенной, а в привнесении в нее порядка, т. е. разумности. Однако нет никакого соответствия между тем безмятежным и вполне интеллектуальным созерцанием, которое действительно противоположно страсти, и состоянием, преисполненным страсти, в котором пребывают определенные высшие классы, стремящиеся поддерживать – пусть даже наименее гармоничными средствами – свою власть над низшими классами; такую страсть они называют чувством порядка. Я думаю, историк в данном случае, как и мы, предположит, что автор «Тимея» вряд ли узнал бы свою идею порядка* в действиях – совершенно очевидных, – которыми определенные касты в ответ на народные требования, заставившие их дрожать от страха, «восстанавливают порядок».
Под предлогом борьбы с коммунизмом
Атака друзей порядка против демократии каждодневно выдается как атака, осуществляемая ради того, чтобы воспрепятствовать победе коммунизма, которая, по их мнению, возвестила бы о гибели цивилизации[21]. Зачастую это не более чем повод, что стало особенно очевидным, когда они одобрили вооруженный мятеж генерала Франко против Испанской республики: ведь кортесы Испании имели в своем составе лишь горстку коммунистов, из которых ни один не входил в правительство, и эта республика даже не поддерживала дипломатических отношений с Советским государством. Впрочем, можно согласиться, что демократия, как сказал один из наставников наших людей порядка, по логике вещей является «преддверием коммунизма»[22]. Но эти люди находят демократию достаточно ненавистной, даже если она ограничивается самой собою, и не оценили угрозы распространения коммунизма, чтобы в течение ста пятидесяти лет направлять все силы на ее уничтожение. Кроме того, забавно слышать, как они проклинают коммунизм во имя порядка. Как будто победа, одержанная в последней войне Советским государством, не предполагала порядка! Но это не тот порядок, которого они хотят.
Двойственность демократического эгалитаризма
Апостолы порядка обыкновенно настаивают, что именно они воплощают разум, и даже научное сознание, поскольку именно они учитывают действительные различия, существующие между людьми, – ту реальность, которую цинично попирает демократия со своим романтическим эгалитаризмом. Есть одна совершенно ложная концепция демократического эгалитаризма, о ложности которой противники демократии знают и которую они используют как боевую машину; однако надо сказать, что многие демократы принимают ее со всей искренностью и, таким образом, оказываются безоружными перед проклятиями своих противников. Эта концепция состоит в игнорировании того, что демократия требует только равенства граждан перед законом и в отношении доступа к общественным функциям; что касается остального, то ее позиция определяется следующим высказыванием английского философа Гранта Аллена: «Все люди рождаются свободными и неравными, цель социализма – поддерживать это естественное неравенство и извлекать из него всю возможную пользу». Или же другим высказыванием, принадлежащим французскому демократу Луи Блану, объявляющему, что подлинное равенство есть «пропорциональность», которая для всех людей состоит в «равном развитии их неравных способностей». Источник обоих высказываний – мысль Вольтера: «Все мы в равной мере люди, но не равные члены общества»[23]. Конечно, верно, что демократия не нашла – но возможно ли это? – критерия, позволяющего заранее определить, кто же, в силу естественного неравенства, имеет право принадлежать в обществе к высшей категории – входить в элиту. Как бы то ни было, она признает это неравенство, отдавая ему должное не только на деле, но и в принципе, тогда как доктринеры порядка подменяют его искусственным неравенством, основанным на происхождении или богатстве, и в этом совершенно пренебрегают справедливостью и разумом[24].
Преклонение перед Историей
Эпигоны порядка, основанного на происхождении, утверждают также, что они защищают разум, ввиду того что за таким порядком «стоит история». Тем самым объявляется, что разум определяется фактом. Фактом, но таким, однако, за которым стоит древность, ибо факты, лишенные этой печати – Французская революция и еще больше недавняя русская, – согласно этой школе (также и по другим причинам), не соответствуют разуму. Мало кто замечает, что эта позиция, хотя ее приверженцы энергично защищаются и объявляют себя чистыми «позитивистами», включает в себя религиозный элемент: высшую ценность в социальном порядке они придают тому, что установилось в нем от начала мира, по «природе вещей», – идея, мало отличающаяся от «воли Бога», – в то время как творения человеческой воли вызывают у них только презрение. В сущности, эта концепция – если выразить другими словами точку зрения одного из первосвященников такого порядка, за который она ратует, – имеет в виду замену Декларации прав человека Декларацией прав Бога[25].
Когда Сьейес возгласил в Учредительном собрании: «Нам говорят, что в результате завоевания родовое дворянство перешло на сторону завоевателей. Ну так что же, его надо заставить перейти на другую сторону: третье сословие станет благородным, став в свою очередь завоевателем», – он забыл, что это завоевание совершилось бы на наших глазах, а не как другое, во тьме веков, и для большей части его соотечественников, включая и третье сословие, в нем не было бы величия. Известно, как мало уважения оказывало большинство французов, в этом отношении достаточно скрупулезных, дворянству Империи.
Демократ не знает истинной природы своих принципов. Следствия этого незнания. Какие удары он мог бы нанести противнику
Противник демократа очень часто бросает ему упрек в непочтительном отношении к природе и истории: «Ваши принципы, – заявляет он ему, – заранее обречены, потому что за ними не стоят природа, история, опыт». И тут в обычной реакции обвиняемого мы обнаруживаем одну из его больших слабостей, а именно: из‐за незнания истинной природы своих принципов он позволяет завести себя на чужую территорию, где оказывается заранее побежденным, в то время как, оставаясь на своей территории, не только был бы непобедим, но и мог бы поставить противника в весьма невыгодное положение. Что делает демократ, когда его обвиняют в том, что его принципы не соответствуют природе и истории? Он считает себя обязанным доказывать, что они им соответствуют. В этом он терпит поражение, так как они им не соответствуют – ни в природе, ни в истории не увидишь, чтобы соблюдались права слабых или чтобы выгода уступала справедливости. Каков же должен быть его ответ? Что эти принципы суть требования совести, весьма далекие от подчинения природе и, напротив, притязающие на вмешательство в нее и на ее изменение в соответствии с ними самими; что они уже начали эту работу – понятие Прав Человека сегодня является неотъемлемым для всего рода человеческого – и, конечно, будут ее продолжать. Давайте уясним себе: если демократ упорствует, доказывая, что его принципы адекватны природе и истории, то это значит, что он сохраняет почтение к последним и по‐прежнему признает систему ценностей, с которой намерен бороться.
Верный своей сущности, демократ, как я уже сказал, может нанести противнику значительный ущерб. В самом деле, противник считает для себя законом презирать все предписания морали. Однако он не признался бы в этом из страха оказаться крайне непопулярным. Стало быть, ему весьма неловко обнаружить этот свой закон перед толпой. Но это легко сделать. Возьмем декларацию, которая служит для него хартией[26]: «Что такое конституция? Не есть ли она решение следующей задачи: дано – население, нравы, религия, географическое положение, политические отношения, богатства, хорошие и дурные качества некой нации; найти – законы, которые ей подходят?» Очевидно, что в этой программе нет ни слова ни о справедливости, ни о каком‐либо диктате совести. Сделайте акцент на этом аспекте догмы, и все отвернутся от нее, особенно искренне верующие христиане, собравшиеся под ее знаменами. Я говорю «искренне верующие христиане», поскольку другие вполне приспособились – по видимости ничуть не изменившись – к доктрине, открыто (и не без гордости) провозгласившей, что она смеется над всякой моралью. Я думаю здесь не только о множестве христиан, примыкающих к «Action française», но и о духовенстве за Рейном, которое в течение двенадцати лет простирается ниц перед мессией Силы, и об испанском духовенстве, ему под стать, застывшем в таком же раболепстве, о членах Священной коллегии, во время эфиопского дела выкрикивавших на знаменитом заседании приветствия римскому Аттиле, которым могли бы позавидовать полковники берсальеров**.
Можно показать не на одном примере, что сегодня для апостолов порядка оказывается невозможным, под страхом неизбежного остракизма, излагать некоторые характерные статьи их библии. Не прошло и ста лет с тех пор, как один из их предтеч провозгласил с трибуны французского парламента: «Необходимо сделать всеобъемлющим влияние духовенства на школу, поскольку именно оно распространяет правильную философию, ту, которая говорит человеку, что он пребывает в этом мире для страдания»[27]. И еще: «Жизнь в довольстве хороша не для всех»[28]. Другой хотел, чтобы гражданские дела распределялись «согласно неравенству, которое Провидению угодно было установить между людьми»[29], чтобы право голоса было предоставлено только «тем из французов, чье имущественное положение делает их гражданами». Каждый признáет, что сегодня никто из них не осмелился бы публично излагать такие доктрины, которые, однако, все еще сохраняют свое влияние[30]. Несколько лет назад, во время знаменитой «сидячей забастовки»** глава правительства Леон Блюм, повернувшись с трибуны палаты депутатов к членам ее правого крыла, обратился к ним: «Если есть среди вас хоть один, кто считает, что я должен был приказать стрелять в рабочих, пусть встанет». Никто не встал, но все они так думали, ибо этого требовал «порядок». То, что сегодня сторонники применения Силы вынуждены на публике сдерживать свои самые глубинные желания, есть знак грандиозной победы – словесной, но все начинается таким образом – во имя идеи справедливости. Хотелось бы, чтобы приверженцы идеи справедливости отдавали себе в этом отчет.
Демократия и искусство
Вот другой пример неспособности демократа защитить себя, из‐за которой он терпит немалый ущерб. Желая привести демократа в замешательство, противник ошеломляет его заявлением, что его принципы «не служат искусству». В ответ демократ старается показать, что они ему служат, и терпит новое поражение, поскольку они ему не служат (это не значит, что они ему вредят). Его аргументы из ряда вон слабы[31]. Ничего не докажешь, восклицая, что при демократии появились великие художники; еще вопрос, были ли их шедевры необходимым результатом этого порядка (оставалось бы, впрочем, доказать, что сочинения Расина или Мольера были результатом монархии). Ничуть не более убедительно и утверждение, что демократия «дает свободу творчества», так как свобода его сопоставима с его ничтожностью. Правильный ответ таков: если демократические принципы никоим образом не служат искусству, то они нацелены на развитие других ценностей, моральных и интеллектуальных, по меньшей мере столь же высоких. Но здесь мы касаемся одного момента, показывающего, что люди, даже те, кого считают наиболее развитыми, все еще пребывают в состоянии детства. Похоже, им надо еще многое сделать для того, чтобы понять, что система, идеалы которой – справедливость и разум, сама по себе обладает величием и нет нужды назначать ей в помощницы красоту. Возникает даже подозрение, не находит ли большинство людей менее обидным для себя, чтобы их считали лгунами, фальсификаторами, ворами, нежели «нечувствительными к искусству», поскольку такое обращение с ними означает для них худшее из оскорблений. Такова, по крайней мере, иерархия ценностей, принятая многими французскими интеллектуалами, которые потребовали недавно отмены наказания для отъявленных изменников[32], поскольку те «обладали талантом». Эту деталь, кажется, не учел историк «Византийской Франции»*.
Двойственность «цивилизации»
В том же духе противник демократа указывает ему на то, что его принципы, не служа искусству, «вредят цивилизации». И на это демократ снова не может ничего ответить. Есть два рода цивилизации, весьма отличающиеся друг от друга: с одной стороны, цивилизация художественная и интеллектуальная (даже эти два атрибута не всегда существуют совместно), с другой – цивилизация моральная и политическая. Первая выражается в процветании произведений искусства и творений духа, вторая – в законодательстве, которое приводит в порядок моральные отношения между людьми. Для первой, особенно художественной, историческим символом может служить Италия, для второй – англо‐саксонский мир. Эти две цивилизации могут, впрочем, сосуществовать, что доказывается существованием в Англии дивной поэзии, знаменитых памятников архитектуры, выдающейся живописи. Они могут также быть явно взаимоисключающими. Так, Италия эпохи Возрождения, по‐видимому, не знает никакой морали: в то время как Микеланджело ваял свои шедевры, Цезарь Борджиа пронзал стрелами человека, привязанного к дереву, чтобы развеселить придворных дам[33]. Было бы лучше, если бы известные системы, которым ставится в упрек то, что они «совершенно не служат цивилизации», не попадались на удочку двусмысленности, а отвечали бы, что если, возможно, и верно, что они никак не поднимают уровень художественной цивилизации, то они полномочно представляют цивилизацию моральную, ценность которой, быть может, по меньшей мере равновелика. Я имею в виду в особенности американский народ. Мне часто приходилось удивляться, видя, как американцы, когда их обвиняют в недостатке художественной цивилизации, смиренно склоняют голову, вместо того чтобы возражать, что в Америке зато есть цивилизация политическая, и возможно, более совершенная, чем у какого‐либо народа Европы, считающего себя вправе презрительно смотреть на американскую цивилизацию с высоты своего «развития».
Другие формы согласия интеллектуала с уничтожением личности
Отмечу еще три позиции, вследствие которых столь многие современные интеллектуалы предают свое назначение, если допустить, что оно состоит в том, чтобы поддерживать на вершине всех ценностей свободу личности, свободу, понимаемую (Кант) как условие sine qua non* личности, или даже (Ренувье) как категория сознания, причем слово «сознание» становится эквивалентом слова «личность».
Вот эти позиции.
1. Восхваление так называемого «монолитного» государства, т. е. государства, понимаемого как неделимая реальность, – «тоталитарного»[34], в котором, по определению, понятие личности и a fortiori*прав личности исчезает, государства, чьей душой является максима, которую можно было прочитать во всех нацистских учреждениях: «Du bist nichts, dein Volk ist alles»**, – и презрение к государству, мыслимому как совокупность отдельных личностей, священных в качестве таковых. Эта позиция, которую избрали в последние двадцать лет многие французские интеллектуалы, объявив о своей солидарности с фашистскими режимами Гитлера и Муссолини, и которой остается предана бóльшая их часть, особенно необычайна для страны, где подобного не было даже во времена монархии божественного права.
Боссюэ хотя и ратовал за слепое повиновение подданного, никогда не заявлял, что тот не существует в качестве индивидуума.
Историк мог сказать[35], что правительство Людовика XIV больше походило на правительство Соединенных Штатов, чем на восточную монархию. Жан Жак Руссо, что бы ни утверждали некоторые из его противников, отнюдь не проповедует Государство‐Молох; «общая воля», восхваляемая им в «Общественном договоре», есть сумма индивидуальных воль, за что он был резко раскритикован Гегелем, типичным поборником тоталитарного государства. Даже доктринеры из «Action française» всегда говорили о своем уважении прав индивидуума – впрочем, из чисто тактических соображений, так как согласно Огюсту Конту, которого они признали своим учителем, граждане имеют только обязанности и никаких прав. Во Франции истинными теоретиками государства, отрицающего индивидуума, – истинными отцами интеллектуалов‐предателей в этой стране – являются (порицаемый Мен де Бираном) и автор «Катехизиса позитивизма»***[36]. Впрочем, очевидно, что упразднение прав индивидуума делает государство более сильным. Но остается выяснить, состоит ли функция интеллектуала в том, чтобы делать государства сильными.
2. Возвеличение семьи – и ее тоже – как целостного организма, в качестве такового не приемлющего индивидуума. «Родина, семья, работа», – провозгласили реформаторы Виши, догма которых не умерла с их падением. Самое интересное, что эти наставники представляли дух семьи как неявно допускающий одобрение жертв, требуемых нацией, в противоположность эгоизму индивидуума. Как будто не существует эгоизма семьи, решительно противостоящего интересам нации (разве действия человека, который обманывает государство, чтобы не нанести урон имуществу своих близких, или устраивает на тыловые должности своих детей, чтобы спасти их от смерти, не являются убедительнейшим свидетельством семейного чувства?), – эгоизма, гораздо лучше вооруженного, чем эгоизм индивидуума, ввиду того что он освящается общественным мнением, тогда как первый считается постыдным. Впрочем, истинные люди порядка это поняли. Нацизм хотел, чтобы дети принадлежали ему, а не семье. «Мы берем дитя из колыбели», – говорил один из их вождей и, опять‐таки как человек порядка, добавлял: «И не отпускаем человека до могилы»[37].
3. Симпатии к корпоративизму, который пыталось установить правительство Петена, взяв за образец фашистскую Италию и гитлеровский рейх. Такой корпоративизм, подчиняя рабочего общему господству традиций и обычаев, т. е. привычке, стремится уничтожить в нем любое проявление свободы и разума. Отсюда государство получает новую силу, но опять‐таки должно ли это составлять идеал интеллектуала? Может быть, нашим людям порядка будет приятно узнать, что один из их великих предшественников желал, чтобы политическое равноправие принадлежало только корпорациям, что он отказывал в нем «индивидууму, который всегда плох, в пользу корпорации, которая всегда хороша»[38]. Еще один тезис, который они уже не отважились бы высказать сегодня, притом что он по‐прежнему относится к самой сути их взглядов на общество.
Интеллектуалы и война в Эфиопии

