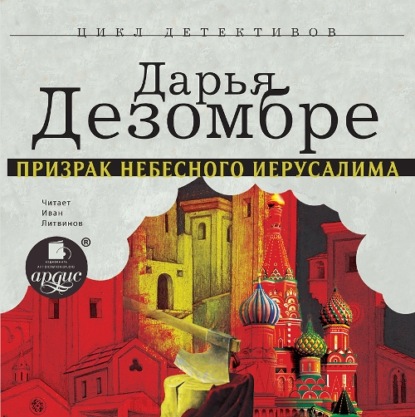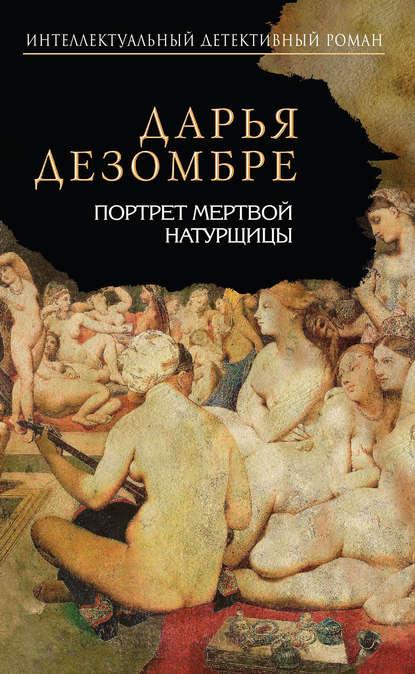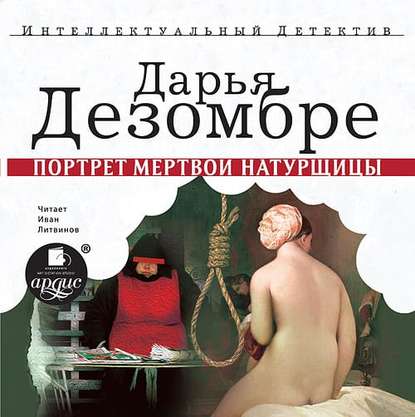Полная версия
Призрак Небесного Иерусалима
Потом вспомнил свои – о первой-то любви – и развеселился: он бы предпочел покойника. Подошел к парочке:
– Вы нашли?
Мальчишка кивнул.
– Видели что-нибудь?
– Ничего, – ответил мальчик.
Что и следовало ожидать. Андрей ободряюще – как ему показалось, улыбнулся: эдакий молодой комиссар Мегрэ, записал телефончики на всякий случай и отпустил молодняк. Посмотрел вслед, как мальчик трогательно поддерживает девочку за талию, хмыкнул и пошел обратно к экспертам.
– Ну как, есть что? – спросил он с тоской, хотя интуиция уже вовсю дула в свою дуду – ничего там нет, и не надейся. Если что и оставил убийца, то смыло Москвой-рекой.
Обкатало труп, как гладкий, без следов морской камешек.
Маша
Маша сравнительно быстро разжилась архивными папками с делами по убийствам за последние два года – все остальные в кабинете относились к ней без особенного интереса, но и без явного антагонизма, как тот джинсовый следователь. И за что он ее невзлюбил? Она так явно чувствовала его неприятие, что даже голос потеряла, когда спросила про задание. Хорошо еще, что хватило ума не просить взять ее с собой на «выезд на место преступления» – понятно же, никаких тебе выездов, ничего, кроме никому не нужного статистического отчета!
Почему это она себе представляла, что будет в гуще событий – если уж не бежать с пистолетом наперевес за преступником, то уж всяко значимо стоять среди экспертов, следователей Петровки и натренированных овчарок и подавать блестящие догадки. И эксперты будут переглядываться с овчарками – мол, такая молодая, а уже такая… умная! Конечно, Маша понимала, что теоретические знания несопоставимы по значимости с «практическим багажом», но хоть какой-то толк от лучшей студентки в выпуске Маши Каравай мог бы быть, нет? Маша выдохнула и сама не заметила, как по-отцовски упрямо выдвинула вперед подбородок: ну и черт с ним! И она с удвоенным мрачным упорством стала читать заключения следователей, паталогоанатомов, просматривать снимки с мест преступлений…
Пока не наткнулась внезапно на некую странность, а именно: отчет по убийству на Берсеневской набережной. По отчету выходило, что в подвале старой электростанции, ныне – трамвайном депо, были убиты трое. Из них – двое мужчин, одна женщина. Маша внимательно посмотрела фотографии и даже, воровато оглянувшись – на нее все так же никто не обращал внимания, – вытащила лупу из стаканчика на столе у Андрея. Так и есть, лупа подтвердила – на футболках цифры. Черт разберет эти черно-белые снимки: чем сделаны надписи? Кровью? Кровью покрыты футболки, кровью залиты рты и подбородки. Маша на секунду отвела взгляд. Все ж таки неплохо, что снимки черно-белые. Перешла к протоколам допросов: основной свидетель, нашедший тела, сторож – Игнатьев И. Н.
Маша переписала фамилию в тетрадку и вернулась к фото: лупа один за другим выхватывала детали из мутного фотопространства – связанные ноги, крупные витые серьги на женщине, стулья, поставленные полукругом, и футболки – огромные, балахонистые, безразмерные. Явно не из гардероба жертв. Нет, их принес убийца.
И только с одной целью – на белой большой футболке лучше видны выведенные кровью арабские цифры: 1, 2, 3.
Андрей
Хорошо дружить с патологоанатомом, сказал себе Андрей и усмехнулся – тоже про себя. Кому-то данное утверждение может показаться весьма спорным.
Обладатели специфической профессии подразделяются на два основных подвида. Первый – мимикрирующий. Человек, который весь день возится с трупами, сам начинает походить на своих «клиентов». Вкратце – становится бледен и мрачен. Вторая вариация на тему патологоанатомов – «от противного». Что на поверку означает человека румяного, хорошего здоровья, оптимиста со специфическим чувством юмора. Роднит два типажа только склонность к горячительным напиткам, но тут Андрей, не увлекаясь, мог поддержать любую компанию… И ради дела даже такую: он, патологоанатом и трупы, трупы, трупы….
Патологоанатом Паша относился ко второй категории. У парня имелось трое детей и очень деловая жена с собственным бизнесом в сфере туризма. Она ненавязчиво содержала все семейство и откровенно обожала своего мужа: развеселого любителя покопаться в чужих, уже остывших, телах.
Андрей забежал сейчас в морг с одной только целью – узнать от Паши хотя бы что-нибудь, что могло бы пройти под названием «предварительное заключение». Однако у того выдался тяжелый день, плюс концерт у «средненькой в средненькой школе», а детская самодеятельность, парень, – сам поймешь, когда станешь многодетным отцом, – это тебе не шутки!
Поэтому от Андрея Паша просто отмахнулся, бросив только:
– Причина смерти – удушье. Причем под водой. Это раз. Далее – труп обморожен. Возможно, парень скончался вовсе не пару дней назад, как можно было бы судить по состоянию тканей. Это два.
– Постой! – Андрей схватил Пашу за рукав уже надеваемого плаща. – Что значит – обморожен? Лето ж!
– Отстань, – вырвался из захвата Паша и пропел фальшивым фальцетом уже убегая: – Завтра, завтра не сегодня – все лентяи говорят!
И оставил Андрея одного стоять в коридоре морга, в растерянности потирая переносицу…
Маша
Маша отсматривала папки до одиннадцати вечера, пока за окном не стало совсем темно, а в кабинете – пусто. Маша устала: и от документов, и от страшных фотографий, и от неопределимого чувства неловкости, неясности, что ли. Что-то она уже видела в этих папках, связанное с цифрами, что-то там уже промелькнуло… Но что? Будто какая-то тень стояла у нее за спиной. Стоит только оглянуться – и она увидит или поймет что-то. Нечто очень важное. Но тень ускользала, глаза уже устали, и восприятие «замылилось». Сидеть дальше представлялось бессмысленным.
Маша скопировала часть документов и положила в сумку. Пора было уходить – она бросила взгляд на заваленный папками и бумагами стол Андрея. Куда делся? Наверное, сегодня уже не появится. И вышла.
Пройдя через пропускной пункт, она увидела на крыльце знакомую до боли спину в старом плаще.
– Ник Ник! – позвала Маша.
Ник Ник обернулся и широко улыбнулся, обнажив плохо сделанную искусственную челюсть.
Маше впервые пришло в голову, что Ник Ник постарел: он уже не выглядел как папин однокурсник, и Маша с грустью подумала, что папа тоже изменился бы за прошедшие годы – ведь Ник Ник всегда был намного папы спортивнее, занимался единоборствами, играл в теннис, изредка уговаривал отца на совместные походы на лыжах. Так что если уж он сдал, то каким бы сейчас был отец? «Разве это важно? – спросила себя Маша. – Каким бы был, таким и был». И это сделало бы ее жизнь такой счастливой и такой… другой, что и представить нельзя.
Маша с нежностью поцеловала папиного товарища в щеку. Кустистые брови Ник Ника полезли вверх.
– Эй! – Он чуть-чуть от нее отстранился. – А как же конспирация? Забыли, девушка, где находитесь? Я тут для всех уже давно Николай Николаевич. И никаких поцелуев, мало ли кто увидит?
Маша сейчас же оглянулась – и точно: по закону подлости из машины вышел ее новый начальник и, старательно не глядя в их сторону, быстро зашел в здание.
– Черт! – чуть не плача, сказала Маша. – Ты прав!
– Что, рассекретили? – Голос Ник Ника перешел на конспиративный шепот.
– Не смешно. – Маша вздохнула. – Хотя все и так поняли, что я – блатная. Просто не знали, откуда ветер дует. А теперь он будет в курсе, чья я протеже.
– Неприятный тип?
– Ужасно, – призналась Маша.
– Ничего, он еще к тебе приглядится и поймет: есть порох в твоих пороховницах!
– Ну да, – вздохнула Маша. – Как же!..
– Брось. – Ник Ник улыбнулся и с независимым видом задал следующий, извечный свой вопрос: – Ну, а как мама?
Андрей
Однако! – мстительно подумал Андрей. Понятно, на какой «верх» намекал Анютин, многозначительно тыча толстым пальцем в потолок. Сам Катышев. Герр прокурор. Незапятнанная репутация, лучший из лучших, народный мститель. Он, Андрей, к нему не осмелился бы даже подойти сигаретку стрельнуть! А наша краснодипломница с ним вась-вась: по-родственному. Целует в щечку. Андрей от раздражения даже по лестнице стал подниматься, вместо того чтобы сесть в лифт.
И только уже в кабинете, за рабочим столом, чуть-чуть отошел. Включил электрический чайник, открыл форточку, достал сигарету, затянулся. Пока курил, засыпал растворимый кофе, врубил компьютер. Зашел на «потеряшек» и забил в параметрах – полгода, мужчины. На экране мелькали лица – много народу пропадает за шесть месяцев в Москве и Московской области. Стоп! Андрей нащупал мобильник, хотя и так знал ответ. Найденный сегодня утопленник, несмотря на искажающую облик предсмертную гримасу, и Ельник И. А., 1970 года рождения, пропавший в феврале месяце, – одно и то же, не слишком приятное лицо. «Хорошо-хорошо», – прошептал Андрей, обжигая горло горячим кофе, а пальцы уже чуть дрожали – он чувствовал, только что дело тронулось с мертвой точки.
Это первое движение, пусть на миллиметр, было самым важным. Андрей представлял себе новое дело как валун на вершине, который он раскачивает потихоньку, пока наконец махина не двинется с места. Итак, следующий шаг – кто же ты, дорогой друг Ельник? И база данных на «уже привлекавшихся» не подвела – экран заполнился текстом и фотографиями в фас и профиль, где Ельник был явно много моложе, чем сегодня утром на берегу Москвы-реки. Андрей довольно потер переносицу…
«Дорогой друг Ельник». Убийца.
Маша
В машине Маша пыталась отделаться от неприятного чувства – ей было очень обидно, что в первый же день, когда она еще не успела показать, на что способна, этот Яковлев уже связал ее с Катышевым и теперь уж точно будет смотреть на нее через «катышевскую» призму. Почему-то она была уверена, что, несмотря на всеобщее, почти религиозное восхищение однокашником ее отца, лично ее рейтинг в глазах «джинсового» общение с премудрым прокурором не поднимет. «Впрочем, – возразила она себе самой, аккуратно тормозя около забора вокруг старой электростанции, – возможно, и не потребуется никому ничего показывать. Вряд ли на Петровке сидят люди легко впечатлительные. А уж этот-то Яковлев – и подавно».
Время было позднее – трамвайное депо уже опустело, только на проходной скучал дюжий детина, почитывая журнал. При виде Маши он положил его на стойку, и она смогла прочитать надпись – «СуперАвто».
– Кого надо? – Охранник явно был не из вежливых.
– Мне нужен Игнатьев И. В., – сказала она совершенно официальным тоном. И потому была неприятно поражена, когда тот развязно осклабился:
– Из журналистов, что ли?
Маша осторожно кивнула.
– Ну не западло вам сюда шляться? Уже два года прошло! А Игнатьева твоего уволили еще тогда. За то, что не уследил. – Казалось, охранник весьма доволен такой судьбой коллеги. И Маша почти сразу поняла почему. – Пятьсот рублей за вход, а порасскажу я не хуже Игорька.
– Сейчас. – Маша порылась в сумочке и собрала сотенными нужную сумму. «Завтра и послезавтра пообедаю яблоком», – подумала она. Перспектива завтрашнего разыгравшегося аппетита под мрачными сводами электростанции казалась малореальной.
Охранник пропустил ее вовнутрь, долго вел узкими коридорами, чтобы вывести на лестницу в один пролет, в конце которой находилась железная дверь.
– После убийства поставили, – пояснил он, открыв дверь ключом из тяжелой связки, вынутой из кармана. Он зажег свет, и подвал осветился холодным серо-голубым, типичным для офисных помещений, галогенным светом, мгновенно убившим всю связку «старый подвал – загадочное убийство».
Подвал был девственно пуст и похож на все подвалы казенных помещений разом, и Маша спросила себя, зачем она, собственно, сюда пришла? Да еще и без обеда осталась… А охранник, уже сжившийся со второй профессией – мрачноватого чичероне, – стал показывать на место по центру, где стояли три стула. Все в рассказе подпадало под описание в деле, копия которого находилась тут же, в Машиной сумке.
– И значит, – голос охранника перешел на театральный шепот, – у всех убитых языки повырезали. Но, понимаешь, в разной степени: у одного кончик только, у бабы – половину, а у третьего – прямо с корнем… Следак говорил, что они смогли бы развязаться и спастись, если бы сумели объясниться между собой. Узел был так хитро завязан, типа морской. Но видно, тем трем было не до беседы… Кровищи-то вокруг напрудили море.
– А цифры? – спросила Маша. – Цифры на футболках?
– Нет, – пожал плечами охранник, – никаких цифер не помню.
* * *Маша рано легла спать – болела голова, перед глазами мутным негативом стояла фотография подвала с тремя убитыми: залитые кровью подбородки, связанные одной веревкой руки за спиной. В полусне она услышала, как мама тихо вошла в комнату. По звуку Маша угадала: вот она повесила на плечики брошенный свитер, а вот что-то прошелестело. Это мама подняла с пола фотографии из досье, которое Маша насобирала за сегодняшний день. Она расстроилась: маме вряд ли понравятся фотографии мертвых людей.
Мама переживала за нее, хотела, чтобы дочка занималась чем-нибудь другим, пошла по стопам матери, а не отца: в медицину, а не в юриспруденцию, от которой, как показал их грустный семейный опыт, больше крови, больше смерти, меньше надежды на выздоровление… Но все получилось как получилось: лучшая физико-математическая школа Москвы (куда Маша попала, выиграв парочку городских олимпиад по математике), по словам папы, должна была «организовать девочке голову, научить логично мыслить». В результате в голове у девочки, как ни парадоксален такой замес, сроднилась «царица всех наук» и хаос так никогда и не раскрытого убийства. Убийства того, кто самим своим существованием до Машиных двенадцати лет был «мерой всех вещей», единственной твердой почвой, обещавшей, что вокруг, в этой расчудесной многоцветной жизни, тоже не сплошная болотистая местность. Однако – ррраз! – и почва ушла из-под ног, подобно легендарной Атлантиде, и замены ей – хоть частичной – не случилось.
Не случилось у мамы стать опорой для маленькой Маши. Мама сама была как старшая папина дочка, хоть и младше его всего на год. Мама работала ординатором у профессора Рябцева на кафедре пропедевтики внутренних болезней, и профессор Рябцев – царь и бог – возлагал на маму какие-то надежды. Все до того момента, как папа не выпросил у мамы ребеночка. Когда мама сообщила о своей беременности Рябцеву, тот пожевал губами и сказал, что маме нужно искать себе другую работу, ведь беременная женщина и молодая мать не могут заниматься наукой: они думают «о другом» по определению. Мама уверяла профессора, что нет, с ней все будет иначе, она сможет «и о высоком», но Рябцев только вяло улыбнулся, похлопал ее по плечу и рассеянно порекомендовал беречь себя.
Мама вернулась домой в слезах и закатила папе истерику: что с ней теперь будет, неужели она станет одной из тех клуш, которые могут говорить только о пеленках?! Нет, это немыслимо, невозможно, она отказывается, еще не поздно пойти к врачу, и… Папа тогда дал ей пощечину – первую и последнюю в жизни. А потом обнял и стал нежным шепотом обещать, что она еще станет второй Бехтеревой, что надо чуть-чуть потерпеть, что Рябцев сам себе противоречит: берет на кафедру таких красавиц, как его Наташа, и не хочет, чтобы те обзаводились семьей… А у них родится чудесная девочка, такая же красавица, как и ее мама…
– Мальчик, – поправила его, всхлипывая, мама. – У нас будет мальчик.
Ничего не вышло, оба родителя бесславно ошиблись: во-первых, родилась Маша. Во-вторых, она не унаследовала материнской красоты. И вообще, мало чего взяла материнского. Но Федору Караваю было все равно – едва придя с работы, он бросался к колыбели, замирая с маленькой Машей на руках, и только счастливо улыбался на грозный оклик жены:
– Ты хоть руки помыл, прежде чем хватать ребенка?!
Наталья потом жаловалась друзьям:
– И прямо с порога – к малышке. Какая уж там гигиена!
Все вокруг восхищались: какая прелестная Наталья с белопенно-кружевным свертком, какой трепетный отец и милейший младенец…
Но Маша с самого раннего детства была в курсе того, что она своим рождением сделала маму несчастной. Пострадала мамина фигура: тончайшая талия раздалась, грудь после кормления обвисла, живот пошел складками. Наталья жаловалась, что спина у нее стала как у гренадера, нога увеличилась на размер, из-за чего вся немалая коллекция обуви была отнесена в комиссионку. Мама часто рыдала, глядясь в зеркало и не узнавая себя, нынешнюю. Изменения после родов пришлись на первые признаки старения – это был двойной удар… Ни уговоры мужа, ни подарки, ни попытки «выйти в свет», оставив маленькую Машу бабушкам и дедушкам, не могли развеять постоянной хандры. Наташа ушла в депрессию.
Отец заходил с работы в супермаркет и готовил ужин для Маши, затем ужин для себя с Наташей, читал Маше книжку перед сном, а потом до полуночи сидел над бумагами. У папы, в отличие от мамы, никогда не болела голова, он ни разу не отмахнулся от Маши, когда та задавала какой-нибудь из тысячи положенных по возрасту вопросов. Однажды Наташа при Маше закатила истерику вокруг собственной ничтожности и профессиональной невостребованности, и Федор быстро увел дочь в ее комнату, но Маша по каким-то вторично-флюидным признакам поняла: истерика ненастоящая. Мама сама не верит в те сентенции, что выкрикивает с надрывом, и в глубине души прекрасно понимает, что место рядом с Рябцевым было ей зарезервировано в счет молодости и красоты, а не в пользу схожести дарования с Бехтеревой. Но чувство вины у мужа должно было вырабатываться константно, как гормоны, как рост бороды поутру: Федор был виновен в том, что она уже не красавица и уже не будет доктором наук.
Тут-то в их доме и стал часто появляться Ник Ник: они с папой когда-то на какое-то время охладели друг к другу, охлаждение было вызвано логикой выбора профессий. Один стал прокурором, другой – адвокатом. Даже десять лет спустя друзья могли вести долгие споры на кухне – Катышев, горячась, говорил о том, что все прогнило, вся правовая база безнадежно устарела, все следственные органы коррумпированы, но, несмотря на это, вину преступников надо все равно доказывать. На что отец спокойно отвечал, что в нашей стране всегда найдется кому сажать. А вот найдется ли кому защищать… Это еще вопрос.
В разгар дискуссий на кухню входила мама, по-юношески садилась папе на колени, обвивала его шею руками и просила побеседовать о чем-нибудь, не связанном с профессией. И Катышев покорно стихал, начинал говорить о «не связанном».
Только уже взрослой Маша поняла, что Ник Ник был и, возможно, до сих пор влюблен в ее мать.
Он ходил к ним часто – тогда, когда отца дома не было и быть не могло. Он играл с Машей (своих детей у Ник Ника не было), пытался помочь маме на кухне – та всегда заливисто смеялась, но с кухни не прогоняла. Маша порой задавалась вопросом: понимал ли это папа? И сама себе отвечала: конечно, понимал. Эта игра была извечной, с правилами, знакомыми даже деревенскому идиоту. А уж кто-кто, а Федор Каравай деревенским идиотом не был. Но мама так ожила от безмолвного обожания Ник Ника – снова надела яркие платья, начала краситься и улыбаться. Она, наконец, стала лучшей матерью: встала у плиты, водила Машу на кружки гимнастики и керамики (Маша не блистала ни на одном из поприщ), вывозила гулять-просвещаться в Коломенское и в Пушкинский музей. Наталья была женщиной вполне прилично образованной, она много разговаривала с Машей, много рассказывала… Маша же все равно тосковала по папе, чувствуя, что Ник Ник, при всех его достоинствах, не более чем суррогат. А папа в последние годы жизни работал совсем много и находил для Маши все меньше времени…
Зато когда находил, оно было только их: они вдвоем бродили по московским бульварам, вместе ездили на рыбалку, ходили в бассейн и на каток. А то, что в это время к маме в гости приходил Ник Ник, так отец доверял обоим и обоих – жалел. Катышева – за то, что, по его мнению, тот выбрал не ту специальность и не ту жену и что у него нет детей, а значит, нет такого счастья в жизни, как Маня. А Наталья… Что ж, Наталья пусть пококетничает. И доверял – не зря.
После его гибели Маша страшилась и тайно желала, чтобы Ник Ник женился на маме: такая кромешная чернота была вокруг, что хотелось видеть рядом родное лицо. Однако со смертью отца – вот загадка! – визиты Ник Ника стали все более редкими, а потом и вовсе сошли на нет.
И еще: Маше казалось, что последние процессы, которые вел Федор Каравай, «вскапывающие» пласты уже не только личностной несправедливости, но уже несправедливости социумной и далее – несправедливости, замешенной на низости бытия, как таковых, очень выматывали отца, хотя они ни разу об этом не разговаривали. Но Маша помнила, как пару раз, зайдя в квартиру, отец застывал перед картинкой: перспектива из темного коридора в ярко освещенную кухню, где мама, сидя напротив Ник Ника, запрокинула голову и хохочет – беззаботно, как дитя. Лицо у Федора в эти моменты было не любующимся уже, а уставшим. Видно, иметь девочку-жену очень мило до некоего момента. А потом хочется иметь жену-соратницу, с которой можно поговорить тогда, когда сказки на ночь детям прочитаны и дверь в детскую плотно заперта.
Однако невозможно трансформировать фею-Дюймовочку в аналог Надежды Константиновны. В конце концов, он же и сформировал вокруг Наташи мир, в котором она могла оставаться любимым дитятей и никогда не взрослеть. Что ж, сам виноват. Возможно, если бы отец был жив, Маша с годами органично заняла бы место сподвижницы, отдав навсегда Наталье роль балованной девочки.
Но не случилось: отец погиб, исчез взлелеянный им волшебный сад вокруг двух его любимых женщин, и мать с его исчезновением как бы выпрыгнула из привычного имиджа. Потому что из двух девочек – Натальи и Маши – Наталья была все ж таки старшей.
* * *Утром Маша проснулась от оптимистических джазовых ритмов будильника и запаха кофе. На всякий случай прислушавшись и, не уловив подозрительных шорохов за стенкой, спрыгнула с постели и пошла под душ, взяв с собой в ванную сразу то, в чем собиралась уйти на работу. Ей все еще было неловко появляться перед отчимом в халате, поэтому через двадцать минут она уже гасила свет в ванной, одетая в привычную свою униформу: черные брюки, свежая черная футболка, темно-синий свитер под горло, волосы забраны в гладкий хвост.
– Я всегда ненавидела эту тетрадку, – услышала она материн голос из кухни и замерла. – Нельзя, чтобы мысли ребенка с двенадцати лет были постоянно заняты убийствами, преступлениями, маньяками! Я не хочу, чтобы это стало ее профессией!
– Боюсь, Наташенька, – голос отчима звучал, как хорошо поставленный лекторский, – что тут ты ничего поделать не можешь. Маша уже выбрала себе дело и…
– Да, я согласилась, чтобы она пошла на юридический! Я думала, что там ей привьют вкус к чему-нибудь еще, кроме как к психопатам! Что дочь станет нотариусом, откроет адвокатскую контору, наконец! И вместо этого очередные трупы, теперь уже – с Петровки! Я позвоню Катышеву, чтобы он отменил ей практику!
– Натусенька, посмотри на это с другой стороны, – примирительно начал отчим. – Ребенок занимается делом, которое ему безумно нравится, есть все шансы, что она достигнет в нем больших успехов.
– А я не хочу… – перебила его мать.
Маша уже толкнула дверь на кухню:
– Доброе утро!
– Доброе, – кашлянув, поздоровался отчим, а мать только кивнула, стоя к ней спиной.
Когда она повернулась, Маша заметила, что глаза у нее красные. Маше стало стыдно, и она произнесла чрезмерно энергичным тоном:
– Ну-с, что у нас на завтрак?
Мать положила на тарелку пару оладий и с той же целью – чтоб уж наверняка сменить тему – сказала:
– Опять в черном?
Обсуждения Машиного гардероба были одной из самых часто возникающих тем по утрам, вроде сводки погоды. Маша привычно отбрехивалась на материны: «А что, других цветов не существует в природе?»
Да, отвечала она. Но их надо сочетать между собой, а с черным эта проблема вкуса и потери времени отпадает. Да, но черный стройнит и оттеняет. Да, но у нее послеподростковый синдром – она носит только черное, и этот цвет соответствует ее утреннему настрою. Да, да, да…
И про себя: «Нет, мамочка, это не траур, растянувшийся более чем на десять лет! Нет, мамочка, это не признак депрессии, нет, я никого не хочу подсознательно оттолкнуть от себя…» Отчим все это время мудро сохранял нейтралитет, а мать в результате вздохнула и предложила Маше ключи от своей машины.
– Не нужно, – сказала Маша, целуя перед уходом мать в щеку. – Я сегодня на метро. Так быстрее.
Уходя, она увидела, как Наталья абсолютно материнским жестом поправила отчиму галстук, и грустно усмехнулась: как меняет женщину внутри и снаружи мужчина, находящийся в данный момент времени рядом… И еще подумалось: а ведь с Ник Ником она могла снова стать девочкой-феей. Но не захотела играть в ту же игру ни с кем другим, кроме папы…