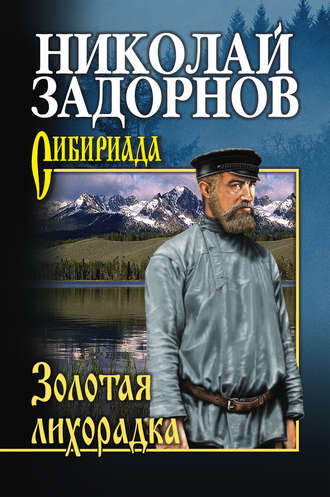
Полная версия
Золотая лихорадка
Она вяжет снопы охотно. Но вдруг подумает: «Для чего я стараюсь? Ах, если бы самой можно было наладить все, как хочется, как хорошо бы можно жить!» Дуняша в прошлые годы мыла золото с соседкой Татьяной. Теперь россыпь обеднела. Есть кое-что еще, но труда не стоит. На добытое золото подруги покупали хорошие вещи.
Дуняша выучилась грамоте. Кузнецовские мальчишки обучали своего отца и Татьяну. Дуня не отстала. Буквы она знала по Псалтыри, учил ее в детстве отец. У Егора теперь много книг в доме. Васька стал заправский читарь.
Муж Илья – работник каких мало, а в родном доме – батрак. Дуня следит за ним, грязной рубахи на Илье еще не бывало.
С поля идти домой вечером не хочется.
– Бог ты мой, да что? Спаси и помилуй! Ах, Егор, антихрист, зараза! – вдруг забормотал бородатый Пахом. – Чего это он, по «штанам»-то тянет лошадью?
По наклону холма, где раскинулись вызолоченные солнцем, как алтарь, нивы Егора, тихо катились запряженные буланой лошадью конные грабли.
И долго еще удивлялись и оговаривали соседа старики и дети подсмеивались, перенимая от старших неприязнь к новинке.
«То ли можно завести!» – думала Дуня. Нравились ей конные грабли, и Василий казался умницей и красавцем. Он привез эти грабли, сам купил на свои деньги. Шел со своей белой, как лен, головой за красным чудом и словно о чем-то думал. Иногда ей жалко было Ваську, слишком уж он утруждает себя думами. Парень молодой, славный! Хотелось бы его встряхнуть, расколдовать!
Подскакал на коне Илья и спрыгнул.
– Управился! – радостно воскликнул он и опять повалился на спину неподалеку от проясневшей жены. – Со всем управился. Все сделал! За всех! Эх, стоят твои снопы!..
– Ты бы пошел Силиным помочь.
Илья ухмыльнулся.
«Илья ли не работник. Ильюша, как хорошо можно жить было бы! Дети бы наши не болели. Танька вон рябая, дочка, тоже вяжет сноп, учится, мамке помогает. Как она болела, как кричала, на себе хотела все коросты рвать, к кровати ее привязывали. Сердце обливалось кровью. Все болезни от грязи, – полагала Дуняша. – Илья, нам ли с тобой не жить? – хотелось бы ей сказать. – Разве мы с тобой грабли не завели бы?»
Егоров сын приемный Сашка-китаец говорит: все болезни входят человеку через рот. Все несчастья выходят у человека изо рта.
Илья смуглый, волос на соломе черен, как уголь. «Наработался мужик и отдыхает. Пахарь! Пахарь мой! Да толку нет говорить. Ну как еще тебе сказать…»
Дуняша все же надеется подобрать к нему ключи. Она знает. Илья привык, зависим от отца по привычке, покорен, цены сам себе не знает. «Люди живут не для богатствa!» Иван Бердышов говорил когда-то Дуне, что подарит ей пароход, повезет по всему свету. Смешно было слушать тогда. Зачем ей пароход? Но запомнились шутки Ивана на всю жизнь. Он заронил что-то. Жить надо лучше, а не хуже, стараться выбиваться. Грязи не бояться, но и в грязи не захлебнуться. Какой был Иван бедняк, жил с гольдами.
Дуне приходилось стирать загаженное, грязнейшее белье, отмывать кровь с портянок, протухший пот, дерьмо детское. Обстирывать ораву мальчишек и парней. Старшая сестра Ильи ушла замуж, сначала отделилась, а потом с мужем – унтер-офицером уехала в город.
Ко всему руки привыкнут.
Бабка Дарья, мать Егора Кузнецова, говорит, мол, все людское. «Какой я только грязи в руках не держала, ничего со мной не стало, никакой грязи не боюсь». Это она говорит, когда стирает одежду у больных гольдов и купает их детей. А дети в струпьях, в болячках, с больными глазами. Она их всю жизнь лечит и еще заразы в дом не принесла.
А на дом Бормотовых находила болезнь. Все ребятишки перехворали, страшно вспомнить, что было.
Молила Дуня Бога. И молила мужа: давай уйдем, отделимся.
А Илья глаза таращил и молчал. Богатырь он, а слабей бабы, отмалчивается всегда.
Хорошо, что хоть кровати у детей теперь.
Дарья говорит: «Все людское». Нет, людская грязь грязней всякой. За коровами приходилось убирать навоз, с утра до вечера вонь во дворе. Но коровья грязь – не грязь.
Дом большой, грязь нарастает в углах. Дуня удивлялась, как в этом бестолковом доме мог вырасти такой парень, как Илья, работник, не знавший устали, умелый, старательный, хороший охотник. У него своя отрада – кони. Он любит зимой почту гонять, лучший ямщик считается на всем тракте. Разнес однажды самого пристава Телятева так, что и кошевку разбило в щепы, и сам Телятев вылетел на лед и с тех пор опасается Ильи.
Летом, если подают подводу – лодку для начальства, лучше Ильи гребца нет. «Конечно, жаль его отпустить из дома старикам!»
Дуня чувствует, что она, кажется, больше не любит мужнину родню. А перед замужеством, будучи Илюшкиной невестой, так старалась угодить им во всем.
Дети болели, а мать молила Бога: пусть лучше сама буду рябая! А вон дочь – с рябинами. А ведь Таньке жить надо жизнь. Кто ее возьмет рябую?
Отрада Дуни – подружка Татьяна, жена младшего брата Кузнецовых. Вместе росли в Тамбовке, вместе вышли замуж в Уральское, вместе тут батрачат. «Сойдемся – все забудем, опять как малые девчонки!»
Дуня знала с раннего детства, что придется ей идти замуж, в чужой дом, к чужим людям, в кабалу, в каторгу, на работу. Теперь отец и мать далеки.
* * *– Смотри, какие цветочки, – опустилась Дуня на колени. Илья радостно улыбнулся. Ему и в голову не приходило, какие-то сейчас цветочки… Жена прикрепила ему голубые колокольчики под ремешок на новый картуз с лакированным козырьком. Илья повел коня в поводу.
– Давай такие же грабли купим! – сказала Дуня.
– Хм! Че это?
– Грабли купим!
– Зачем?
– Сегодня хорошо! – сказала Дуня. – Быстро мы с тобой построили бы дом свой. Все заведем… Пойдем на золотую падь. Таньку возьмем с собой… Намоем золота, ей приданое будет, все купим, и будет у нас дом свой и чистый! Отцу с матерью отработаем, отдарим, все им будет… Как Кузнецовы. У них и Егор и дети ходят золото моют.
Она обняла Илью, повисла на его шее.
По берегу катились с работы конные грабли. За ними валила целая толпа, бежали ребятишки, а посередине белел лен Васькиной головы.
Илья опять молчал. Он и сам думал, что хорошо бы убраться от стариков.
– Надо еще ремней нарезать, – сказал он, снимая узду за поскотиной и отпуская коня.
Дуня призадержалась. Ей нравились красные грабли, толпа и огромная релка, усеянная снопами, со снопами по гребню, на пологе голубого вечернего неба. Походило на картину.
Танька, нежно тыкавшаяся в подол лицом, стыдливая, застенчивая Танька, трогала мать ручонками. Хотелось жить и радоваться.
Еще было светло.
Илья ушел после ужина резать ремни из шкуры. Дуня побежала к нему через тихий пышный огород. Она увидела по лицу, как он обрадовался.
– Так пойдем мыть?
– Это все вранье, наверно, – ответил Илья. – Золота они нам не покажут. Да и нет там ничего.
– Нет, есть!
– Нету.
– Послушай меня вовремя, Илья, у тебя руки золотые… Пока не поздно…
Илья испуганно посмотрел на жену. Потом хмыкнул добродушно и вскинул голову.
Она опять заговорила, а он в знак согласия кивал, нажимая шилом на толстую кожу.
Как-то страшно было бы уйти с женой из дома. Илья привык во всем слушаться, работать на отца и на дядю и не представлял, как же они останутся.
Сам он жил в такой чистоте и в такой заботе, какая ему и не снилась прежде. Он помнил бедное, голодное детство, тяжелые первые годы, когда их семье пришлось тяжелей всех.
Все Бормотовы – честные работники, кроме работы, ничего не знали, жили как все, других не опережали и не обидели еще никого. Если отец и бил кого, то только своих.
«Но вот, к примеру, отец и дядя чего-то задумают, а меня нет! Или мать… А Дуняши нет!»
Илья даже не смог удержаться и ухмыльнулся.
Дуня встала и ушла, аккуратно притворив дверь. Она тихо прошла под окнами по огороду.
«Конечно, старики – дурные! – полагал Илья. – Мать часто ворчит, но что ее слушать!» Илье и самому надоела ругань и строгости. Но он, бывало, уедет ямщиком, а потом, сменившись, останется где-нибудь на почтовом станке. Соберутся товарищи, купят у китайца ханшина.
Пахом и Тереха не запрещали Илье гулять, даже словно бы довольные бывали, когда он возвращался нетрезвый. Только редко случалось это.
Илья полагал, что, конечно, жена права, со временем само как-нибудь, наверно, решится…
А хорошие ремни получились! Не хуже городских!
– Эй, Илья! – крикнул сын торговца Санка Барабанов. – Я гонца поймал!
– Гонца! – Илья вскочил как ошпаренный и выскочил наружу.
– Да, скоро кета пойдет.
– Я как раз управился. Невода свяжем?
– Свяжем, – расплылась широкая Санкина рожа.
Ночью звезды Оринку вышли в зенит. По всем признакам, кета на подходе. Но еще пройдет неделя, прежде чем начнется ход.
…К Уральскому подходил пароход. Сеял дождь. Увидя с палубы свою убранную пашню, Тимоха притих и почувствовал себя бесконечно бедным. Горькая доля снова ждала его, как будто он вернулся не в деревню на Амуре, а в старое село в Расее, где был крепостным.
Он вышел на берег, стараясь казаться пьяным, чтобы не так было стыдно. Встречала его вся деревня.
– Гляди-ка, ты на пароходе стал ездить! – сказал веселый и толстощекий Санка Барабанов.
– А что я, хуже тебя?
И этот пароход брал дрова.
– Зачем ты врешь? Когда ты успел? – спрашивал Пахом Бормотов.
– Я быстро прошел. Я же сноровку имею, по золоту опыт, и давно набил руку. Старание…
– Откуда же твое старание? – спросил Федор Барабанов.
– Я был на речке, где Егор мыл. Открыл речку другую, свой прииск, а потом спустился на Егорову речку. Меня на тех перекатах чуть не убило, как Егора… Трепало… Да… Мы с ним открыли…
– Верно, верно! Там другие речки тоже с содержанием! – подтвердил Егор.
«Зачем отец поддакивает?» – подумал Василий.
– Силин в городских сапогах приехал! – подсмеивались бабы.
Мужики плотно обступили Тимоху. Он хотел идти домой, но Илья удержал его.
– Нашел? Намыл?
Никто, кажется, не верил рассказам Силина.
Илья Бормотов насмешливо смотрел с высоты своего роста на вернувшегося соседа. Тимошке пришлось подбородок подымать.
Илья затрясся от смеха.
– Не веришь, спроси у Егора. Он там был! – сказал Тимоха. – На том же перекате, что и его, меня чуть не убило.
– Покажи хоть!
У Егора не решались так требовать, а к бедняку Тимохе чуть не лезли за пазуху.
– Показать! А ежели ничего у меня не осталось?
– Покажи! – попросил Пахом.
– Тимошка по приискам стал таскаться – врать стал, – отходя, говорили мужики.
«Чем бы доказать?» – думал Тимоха, сидя дома. Жена ни о чем не расспрашивала его. Она сказала, что парень заболел, не справился с хозяйством.
Сын не стал говорить с Тимохой, ушел спать.
– Ни одного самородка не осталось, как сон пронесся! – сказал Силин жене.
– Тебе, пьяному, померещилось, поди камней набрал…
Тимоха снял свой картуз.
– Что-то блестит… Гляди… Вот пыль золотая в картузе… Верно?
Вошел Егор.
– Тебя обчистили в Утесе?
– Обчистили! Я крепился, но змей ведь… А вот знак! Гляди, Егор, Никто мне не верит.
Тимоха и сам бы в таком случае не поверил. Мало что прогулял, он семью оставил без подмоги. Он чувствовал себя кругом виноватым.
– Слава Богу, что живой вернулся! – сказала Фекла. – Да вот я и детям говорю, слава Богу, отец живой… – повторила она, оборачиваясь в угол, где лежал ее старший разболевшийся сын.
– Никто мне не верит. Гляди, вот самородочек маленький, рубля на три… Эй, сынка! Иди посмотри… На три рубля есть! – сказал Силин. – Чем же я виноват? Людям нельзя было не потрафить, они меня приютили… Видишь вот, за подкладкой еще осталось.
– Что мы будем с тобой делать? – спросил Егор. – Видел ты?
– Все видел. Я, наверно, как кидал его в картуз – за подкладку попало… Но места я не выдал. Скажи Фекле, что я не вру. Еще пойдем туда.
– Это мы разведку ведем, – сказал Егор хозяйке.
Вскоре он ушел.
С печалью смотрел Тимоха на свой картуз на столе.
«Какое тебе было богатство и пронеслось! Пронеслось счастье! А много ли домой привез? На три рубля! Позор!»
Утром Пахом Бормотов получал на пароходе квитанцию за принятые дрова. У сходен он не утерпел и спросил знакомого матроса, где садился Силин.
– На Утесе.
Оказалось, что Тимоху провожали с бубнами и пляской. От жеребцовского дома и до самых сходен дорогу выстелили красным кумачом, и взошел Тимоха на судно в богатой рубахе и поддевке, но потом все прогулял. А вначале грозился, что может купить пароход.
«Греб такое золото!» – подумал Пахом, почувствовал, что его забило, как от озноба. «Егор ходит злой. Выдали все чужим, а от своих таят».
Дуня выдоила вечером двух коров, умылась и переоделась.
Старуха цедила молоко.
– Барыня ты молодая, с осанкой! – сказала она невестке.
Арина вошла с другим подойником.
– Куда ты?
– Машину смотреть! – ласково ответила Дуняша.
– Что уж это! – вспыхнула Арина. – Что это за слова! Срам какой! Разве женское дело машины смотреть?
– А что мне? Что еще не сделано? И постель постелила в зимовье. Все чистое. Отдохну сегодня, как на свадьбе. Илье скажите, я живо…
– Куда это барыня-то вырядилась? – спросила через забор Агафья Барабанова, тащившая на вилах сено.
– Эй, барыня, дай сладкого! – закричали ребятишки, обступая Дуню.
– Ишь выступает! – встретила ее Татьяна.
У Дуни хорошие наряды лежат в сундуке. Она завела себе и шкафчик.
«Зачем тебе?» – удивлялся тогда Илья. Сама намыла она золота на речке, сама с Татьяной накупила, чего хотела. Но негде эти наряды носить.
Дуня пришла от Кузнецовых, скинула платок и, взглянувшись в зеркало, сказала:
– Дядя Силин не врет. Прииск нашел… И место красивое, цветочки там…
– Ты-то откуда знаешь? – спросила Арина.
– А вот знаю… Сама поеду туда… с Ильюшечкой.
– Ишь ты! – кисло поджала губы старуха.
– Само богатство идет к нам в руки!
Дуня охотно пошла бы мыть одна, с Татьяной под охраной Егора. «Но ведь баба. А детей куда? Даже и детей взяла бы. Таньку бы взяла».
Дуня умела мыть золото и умела продавать его, торговаться, знала, какое золото сколько стоит. Золотник равен на вес четырем игральным картам.
Илья сидел на лавке. Он отдыхал, сложив руки на брюхе и широко раскинув ноги в новых сапогах. Одну загнул под скамью, а другую выставил далеко вперед.
Утром Пахом встретил Тимоху и поклонился ему почтительно.
– Учуял! – пробормотал Силин.
– Прости, сосед! Мы по привычке, сами ничего не можем, а другим не верим. Мы ничего не знаем, а уж люди говорят… Знают где… Мол, Силин указал…
– Это мало важности, – ответил Тимоха. – Наше никуда не денется. Что вы за соседи, помочь не могли собрать… Сын грыжу себе нажил…
– А есть там золото?
– Там столько, что все с ума сойдут! Егор же говорил вам.
– Греб золото? Греб? – вдруг задрожав, как со страха, воскликнул Пахом и кинулся к Тимохе. Он готов был не то убить его, не то целовать в приливе чувства благодарности.
– Ты че это? Не кондрашка ли? Со мной беда, а с тобой смех, дай-ка я сведу тебя домой. Или, может, спрыснуть водой? Эй, Пахом! Че с тобой? Опамятуй! Верно говорят, что за свое готовы удавиться, а на чужое рады разориться!
Глава 9
Илья сел на табурет и опять ногу выставил. Дуня ухватила мокрый задник мазанного салом рыбацкого ичига, стянула его, содрала портянку. Илья запрятал босую ногу под табурет и выставил вперед обутую. Дуня сняла и второй ичиг, как мать ребенку, погрела ступни горячими руками, одну и другую, убрала ичиги, кинула мужу меховые чирики, налила в умывальник воды из котла, помыла руки. Муж помылся не торопясь.
Дуня подала горячие щи. После обеда Илья попросил горячего чаю с брусникой. Он пил жадно и все не мог согреться.
Такого с ним еще не бывало. Он налил себе из латки брусничного сока.
Мужики ловили сегодня для соседей, на юколу, отрабатывали свою долю. Илья не стал про это рассказывать, и так известно. Для себя ловишь, как хочется. Для чужого приходится стараться.
Соседи всегда помогали Бормотовым рыбачить и учили их. Теперь приходилось свою обязанность исполнить. Но, кажется, уже отловились, гольды повели домой целые караваны лодок. Им хватит на зиму и себе, и на корм упряжкам, и на вытопку жира.
– Я сегодня любовался, как они рыбачат, – заговорил Илья. – На нем кафтанчик из рыбьей кожи, и он стоит в лодке. Себя не жалеет, ветра не боится. Стоит крепко в сильную волну, а как плюхнется доска днища и так его обдаст. А он ни че!
Дуня засмеялась от счастья. Она любила, когда Илья что-нибудь рассказывал.
Ветер злой, не так силен, как холоден, и с дождем. А гольду хоть бы что. Илье не хотелось отстать, и он спорил с ними делом. Он сильнее. Он и одет теплей, но на этот раз озяб, еле терпел. Виду не подавал, чтобы они много про себя не думали. Илья, считавшийся хорошим охотником и умелым рыбаком, сегодня признал в душе, что с гольдами ему не тягаться.
У Дуни руки разъедены солью и в порезах. Все эти дни она обрабатывала добычу с девчонками. Расейские старушки с ворчней помогали потихоньку, рыбы они боятся. Аксинья говорит: «Такую разрезать силы нет, не женское дело, это не рыба, а свинья. К такой рыбе страшно подступить».
«Это не кит, а кета!» – отвечала Дуня.
«Все равно. Свиней резать – не женское дело!»
Дуня пластала смело, не хуже гольдок, работая сними вместе на артельном столе под навесом.
Уже пятьдесят бочек уложили. Пахом закрыл, забил, все теперь готово. Стоит рыба в сарае подле мешков с солью. Рыба ждет купца с пароходом. Придет – все заберет, расплатится. Пахом деньги поделит с гольдами. Выпьют по такому случаю рыбари.
Сегодня с утра Дуня стирала, руки ее больные отходили, смягчались в горячей воде.
Приехал гольд за солью. Пахом пошел с ним в амбар. Аксинья держала фонарь со свечой, а Пахом брал соль и сыпал в ведра.
Вернувшись, Аксинья увидела, что пьет Илья чай с соком из новой кружки. Дуня купила ее, видно, вчера на баркасе у торговца, который приехал брать рыбу у Кузнецовых и у Сашки-китайца. Была у Ильи старая чашка деревянная, все ели и пили из таких еще дома, на старых местах. С малолетства приучен Илья матерью. Ей казалось, что вместе с ее чашкой он как бы принимает и ее материнское благословение. А тут невестка становится поперек! И что ей не живется спокойно!
– Детушка… – приговаривала Аксинья, укладываясь подле захныкавшего внучонка, в то время как мать его Дуняша хлопотала около своего мужа.
Невестка, что бы ни увидела нового, все тащит с баркаса. «Видно, еще золото у нее припрятано, где-то держит его. Не у Татьяны ли?»
В избе на кухне горит лучина в поставце.
С другой рыбалки явилась целая артель: Тереха, двое парней и двое гольдов. Не переодеваясь, измученные рыбаки наскоро и жадно поели горячего, попили чая и повалились спать на лавках или прямо на полу, расстелив полушубки.
Дуня разобрала сырые сапоги и портянки, разложила и развесила сушить. Завтра еще рыбачить чуть свет пойдут далеко. Тереха помогает своим знакомым выставить сорок бочек. У Терехи свои друзья среди гольдов, свои расчеты, свой скупщик, еврей из Читы. До сих пор евреев мужики не видели.
Пахом не перечит брату. Завтра артель его пойдет на остров. Вода спала, коса выступила, и там лов хорош. А Пахом ловил возле дома, на Егоровой косе. Зачем далеко лезть?
Уральское год от года выставляет купцам все больше бочек. Теперь, уж наверное, четыреста бочек возьмут скупщики, и заготавливают их мужики, которые пятнадцать лет тому назад боялись воды, не могли взять весла в руки, не знали, как сладить плот, в лодке стоять не могли, валились с ног. И уже живя здесь, не знали, как ловить кету, как ее резать, солить. Некоторые еще и до сих пор боятся, бабы есть – не знают, как ее в руки взять, толстую рыбину, как ее резать, с которой стороны.
Купцы уверяют, что скоро через всю Сибирь пройдет железная дорога и тогда цена на кету подымется, ее повезут во все города Сибири. А пока везут лишь по воде, небольшая часть доходит до старой сибирской столицы – до Иркутска.
Егор хочет солить икру! Но чтобы красную икру солить, надо, говорят, какие-то грохота, пропускать ее как золото, промывать, мыть в тузлуке, а тузлук этот варить. Где же у нас котлы? Кто это сумеет? Егору теперь все промывка мерещится, он хочет икру мыть, как золото. Егор сегодня рыбу сдавал, а купцы те отвечали, что привезем и соль, и котлы, и научим варить, только бы сбыт был, куда продавать, а голодных, мол, на свете прибавляется. Пока нет дорог, а будут дороги, мол, все вы разбогатеете. Зачем вам пашни, кидайте их, целый год можно пьянствовать и гулять! Рыба прокормит. Шутки они шутят! Целый год пьянствовать, у них же спирт покупать!
Пахом согласен, что вещи покупные здесь хороши, оружие, лампы, керосин, посуда, сукна, пальто. Такого раньше люди и не видали, откуда только это все везут! А что и видели, то было дорого. За деньги тут можно достать все. И от этого как-то страшно было на душе. Нам не сеять? Значит, больше не надо ткать, прясть, тянуть куделю с деревянных зубьев? Может, тогда и вечерами, длинными зимними вечерами, не петь и не работать? Конечно, хорошо бы вечный праздник! Налови кету, отправь ее на пароходах, возись с бабой и гуляй. А как же жить? Для чего человеку жить? Как же без дела? Нет! Пахом не желал так быстро расстаться со своей жизнью. Хотя в то же время он не желал и упустить барышей.
Дуня-невестка прошлые годы покупала простынное на баркасе. Дешевле, говорит, и лучше, чем делать самим.
Дуня сама работает, ее руками сделанное крепче покупного. Но купленное тоньше, белей, нежней. «Хочется всем новинок-то».
С бочками кеты ушли баркасы на буксире купеческого парохода. Егор с Савоськой для примера и даром отдали своему купцу бочонок с икрой. У Пахома с Терехой выкопана и убрана картошка, обмолочен хлеб и еще много хлеба придется молотить. Лен трепали бабы. Ветряная мельница заработала, но крыло у нее в ветер живо изломалось.
На озере звончей и веселей бьет церковный колокол.
Начинается промежговенье. Молодые в венках с дружками и подругами приезжают к попу на подводах, увитых по бортам и по корме осенними цветами.
А ветер уже злей… Дни выдаются иногда теплые. Егор говорил, что надо новую водяную мельницу делать. У Бормотовых нынче первый год нет больных, а то все дети болели. Двое из семьи Бормотовых схоронены на вершине бугра. А нынче никто не мечется в горячке.
* * *Немало труда вложила Дуня в хозяйство. И Аксинье иногда хочется приласкать невестку. «Конечно, лезет она всюду, нас судит, но ведь она любя. Глупая, молодая, Ильюшку любит. Только что-то он не поучит ее ни разу, это ведь не вредит. Маленько, чтобы не выряжалась, а то уж очень бойка».
Но, представя себе, как отлупил бы сын Дуняшу вожжами, Аксинья вспомнила, как когда-то Пахом саму ее хлестнул, пьяный, уздечкой, и вдруг пожалела невестку. А сколько тычков, затрещин снесла сама!
– Ну, поди на улку, к подружке ли… отдохни, погуляй с Татьянкой-то, – сказала Аксинья, вынимая из печи свежие пироги с рыбой, с осетриной. Радуясь пирогам и жалея себя за снесенные смолоду побои, Аксинья хотела бы и своей труженице, к которой привыкла за эти годы, отдыха и довольствия.
Илья чуть свет опять унесся сводить счеты в лесу. Нынче медведи сообразили, что люди ночью боятся по тайге ходить. Ловят рыбу в сумраке. Купец заказывал Илье к весне десятка два медвежьих шкур. Хочет забить Илья. А мог бы у гольдов за бесценок выменять, дать им старые ведра, чайники, что в хозяйстве не нужно, они все возьмут.
– Можешь погулять, – ласково повторила Аксинья невестке.
– Запрягу коня? – спросила вдруг Дуня.
– Запряги, – сказала свекровь.
– Свекровушка, я в телегу запрягу?
Воскресений в семье не знали, все эти дни работали и по праздникам. Мылкинского попа не любили, ездили к нему, но всегда помнили, что он из-за выгод охотней возится с гольдами.
– Ласковый теленок двух маток сосет, – сказала Аксинья и погладила невестку по плечу. – Гладенькая!
– Золота намоем… Все купим новое. Городское, – ответила Дуня.
«Ну, что же это?» – удивилась такой бесцеремонности Бормотова. Сегодня не хотелось ссориться, уж очень удачно прошла осень, и купцы хорошо расплатились.
– Городов-то тут нет! – сказала она. – Где брать городское?
– Городов нет, а все лучше, чем на старых местах. Сами же говорите.
Дуня запрягла смирную кобылу, забрала ребятишек и уехала.
«Куда-зачем, про то не скажет!» – подумала Аксинья. Дуня к обеду вернулась.
– Господи! Палки какие-то привезла! – всплеснула руками Бормотова. – Господи, да что это она? Зачем? Что ты?
«Если уж не делиться, так я хоть тут постараюсь!» – решила Дуня.














