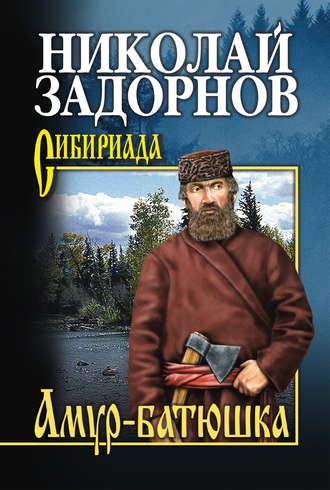
Полная версия
Амур-батюшка
Темнолицая и скуластая, с жесткой складкой губ и низким лбом, плотная и коренастая, Барабаниха была женщиной редкой силы и здоровья. «Жала дома на полоске, – рассказывал про нее еще в дороге Федор, – шаг шагнула – и ребеночка родила». Долгий сибирский путь, во время которого она схоронила двух новорожденных, еще более озлобил ее.
Федор хотя и делал вид, что держит в семье верх, но в душе побаивался жены. На праздниках, возвратившись с гулянки от Бердышовых, он попробовал было под пьяную руку помыкать ею, но она влепила ему такую затрещину, что мужик только охнул тяжко, улегся на лавку и уж более не заикался.
Барабаниха всегда была зла на кого-нибудь по пустякам со всей силой своей могучей природы и крепкого простого ума.
К Наталье, после того как та сдружилась с Бердышовой, она особенно придиралась. Гольдка среди жителей Додьги была богаче всех, и Агафья усматривала в дружбе Натальи с ней корысть, не допуская мысли, что с туземкой можно водиться из-за чего-нибудь, кроме выгоды.
– Хитрые эти Кузнецовы, гольдячку обхаживают, – как-то поутру сказала она мужу, заходя в землянку. Она чистила курятник, стоявший в землянке, и только что вынесла помет. – Сейчас идет Наталья и несет от нее новенькие обутки, расписные, гольдяцкие. Так я и знала, что она чем-то у них поживиться хочет.
Надевши подарок Анги – новые унты, Наталья пошла по воду. Любо теперь было и поглядеть на свои ноги. Белоснежная сохатина была мелко и искусно расшита яркими нитками и бисером. Ремешки туго перехватывали голяшки, и мех прилегал плотно и красиво. Обутки были мягки, легки, как перышко, и теплы. Сильные Натальины ноги, привыкшие к грубой и тяжелой обуви, шли теперь легко, как в скороходах.
Возвращаясь с полными ведрами от проруби, Кузнецова повстречала у барабановской землянки Агафью.
– Твой-то опять седни робит? – вздохнула Барабаниха, как бы желая сказать: мол, Егор, бедняга, из кожи лезет вон, старается дорваться до богатства.
– Чего же ему не робить? – возразила Наталья, ставя ведра на тропинку. – Погода позволяет. А твой-то опять, поди, в тайгу собирается? – не без насмешки сверкнула она бойкими светло-серыми глазами.
– Да ты, никак, в обновке? – деланно удивилась Агафья. – Ну, вот и ладно, а то уж больно ты мерзла в рваных-то, жаль глядеть было. Не зря, значит, ты к Анге бегала. Видишь, и потрафила она тебе. А я не стала бы расписные надевать, – выставила она ногу в загнувшемся, подшитом кожей катанке, – этак-то теплее и красивей, чем в расписных ходить. Да и ноги в них подкатываются, – заключила она презрительно.
– Как-нибудь и в этих проходим! – Наталья подняла ведра и пошла своей дорогой. – Где уж нам стары пимы таскать! – кинула она через плечо.
После этого разговора Наталья стала чаще бывать у Анги. Иван неделями пропадал в тайге, и женщины часто подолгу бывали вместе. Наталья помогала Анге сшить платье крестьянского покроя, с оборками и лифом, и сарафан, научила ее повязываться платком на разные лады, как делают это русские бабы. За беременность гольдка располнела, лицом стала бела и румяна, щеки округлились, и скулы сгладились.
– Ты теперь на русскую походить стала, – говорила ей Наталья.
Как-то раз вечером Наталья, подойдя к бердышовской избе, увидела Ангу за странным занятием. Над Ливаном ярко светила луна, и торосы на реке горели, как костры, разложенные по льду, а лес и сопки были видны ясно, как днем. Стоя под лиственницами, гольдка держала тарелку с вареной рыбой и с чашечкой водки. Что-то приговаривая по-своему, она разбрасывала кусочки рыбы кругом себя на искрящийся свежий снег, брызгала пальцами водку и так была увлечена этим занятием, что даже не взглянула на подошедшую к ней подругу.
– Ты чего это делаешь? – внезапно обняла ее Наталья.
– Не знаю, – виновато улыбнулась Анга и поежилась, вбирая голову в красивые плечи. Потом она широким и решительным движением выплеснула остатки водки на снег, сбросила рыбу с тарелки и, нахмурившись, сказала Наталье:
– Это старый обычай. Ты не срами меня за это. Рожать-то мне скоро. Пойдем-ка богу помолимся, чтобы бог добро нам давал, – и тихо, таинственно добавила: – Чтобы нам всем ладно было.
– За что же тебя срамить, бог с тобой…
Бабы вошли в избу, засветили сальную свечу и встали на колени перед маленькими медными складнями.
– Молитва говори, – велела Анга, подымая взволнованные глаза к божничке.
Анга крестилась, низко кланялась и, коверкая славянские слова, старательно повторяла молитву. Когда же Наталья смолкла, она поднялась проворно и спросила:
– А другой-то молитва знаешь?
– Знаю.
– Ну, другой молитва другой раз молиться станем, сегодня, однако, хватит.
– Тебя кто молиться-то учил? – спросила ее Наталья.
– Батька учил, а Иван плохо молится…
– Известно, мужик: гром не грянет, лба не перекрестит.
– Ваша бабка учила. Она много молитва знает, а Иван-то мой плохо знает, он ничего не знает.
Иногда женщины привозили в нартах кадушку воды, переливали ее в печной котел, жарко топили печь и мылись. До переезда на Додьгу Анга мылась редко. В детстве и в юности, до встречи с Иваном, она совсем не знала мыла. Когда-то, первые разы, купалась она неохотно, но со временем вошла во вкус и теперь с упоением плескалась и обливалась водой. Когда Наталья растирала ей длинную смуглую спину, она приходила в восторг и хохотала.
Потом бабы одевались, приводили в порядок избу, ставили сушить корыто и садились ужинать ухой из свежей рыбы, которую Иван выловил подо льдом снастями и наморозил в амбарушке.
Возвратившись с охоты, Бердышов был приятно удивлен переменой во внешности жены.
– С обновкой тебя, что ль? – вымолвил он, высунув поутру лохматую голову из-под мехового одеяла и глядя, как жена обряжается в сарафан. – Поди-ка, щипну тебя.
– А Наталья – боец, – говорил он, натягивая на ноги усохшие за ночь ичиги. – Надо нам с тобою уважить Кузнецовых, гостинца, что ль, ей послать.
– Сохатины-то нету… – Анга расчесывала деревянным гребнем густые сбившиеся волосы. – Однако бы, ангалкой[36] рыбы наловить им.
– Одолжить им, что ль, снасти? – в нерешительности спросил Иван. – Пусть ловят. И сетку дам, ведь они мне сказывали, что на родине ловили подо льдом рыбу.
– А может, Ванча, к китайцу бы нам поехать? Наталье-то товару взять?
Анге давно хотелось побывать дома, но причины не было, чтобы поехать в Бельго.
– Ну нет, к китайцу не поеду, – отмахнулся Иван. – Товар-то им дарить не жирно ли станет?
Анга с сожалением покачала головой. Усевшись на корточки перед очагом, она сложила туда дрова, занесенные в избу с вечера, и стала щепать из сухого полена лучины.
– Ваня, а пошто ты меха ныне у себя держишь, в лавку не везешь? – спросила Анга, склонив голову и лукаво смеясь из-за плеча.
– Маленько обожду. Считай сама: до Рождества я Ваньке Галдафу соболей давал, за ним еще оставалось, а чего набрал к празднику, так это пустяки. Куда мне теперь торопиться? Не к спеху, а у них и без меня мехов хватает. Соболь пошел хлестко, гольды им полные амбары натаскают. Дал я им задаток пару соболей, теперь они шишей от меня дождутся. Беда! – вдруг ухмыльнулся Бердышов.
– Ты задумал чего? – мягко и счастливо засмеялась Анга. – Однако, чтобы Гао тебя только не обманули…
– С них станется, – вздохнул Иван. А голос был насмешливо-самоуверенный, и Анге казалось, что вышло у него: мол, так я и дался!
Анга догадывалась о намерениях мужа.
Чтобы китаец ничего не подозревал, Иван дал ему из ранней добычи пару соболиных шкурок, из которых одна случайно была попорчена при снятии. Уже тогда у Ивана в запасе был десяток соболей. И потому, что он отнес в барабановскую землянку лишь пару, не пожалев к испорченному приложить пушистого и черного, Анга почуяла, что муж ее что-то затевает…
В амбаре у Ивана стояли ящики с водкой, Иван ни жене, ни тестю толком не рассказывал, что он задумал. Он всегда все свои предприятия начинал втайне и только при таком условии верил в их успех.
После обеда Бердышов зашел к Кузнецовым.
– Тебе свежей рыбы надо? – обратился он к Егору.
– Мало ли чего мне надо, – возразил тот.
– Эх ты, рыбак! Как же ты на Амур без снастей пришел? А говоришь, на Каме тоже всякий лов ведется. Нет, кабы там было так же, как тут, что эта рыба-матушка нам и хлеб и мануфактура, ты без снастей никуда бы не тронулся.
– Два-то года мы, чай, не по реке шли. В степи или в лесу ловить-то было неводом?..
– А разве в степи нет реки?
– Нету.
– А я всю жизнь при реке, так мне кажется, что и мест без реки не бывает. Калужатины сейчас бы нам с тобой, амуров ли этих. Самая жирная рыба амуры-то. Бери-ка, Кондратьич, пешню и айда на реку. Жалко, Федор куда-то пропал, а то бы и его взяли. Ты собирайся, а я за снастью да за ангой схожу – не за женой, а за сеткой. Вот она у меня каким именем названа. Чудилы эти гольды, девку «сеткой» назвали… Я спросил как-то Григория: «Ты пошто ее так назвал?» – «Как же, говорит, пусть сеткой зовется, чтобы счастье ей ловилось».
Накануне из тайги подул ветер. Ночью он переменился, и с верховьев опять нагнало холода. День был сумрачный, и даже в полдень стоял трескучий мороз.
– Ненадолго же отпустило. А мы-то полагали, что весна началась, – говорил Кузнецов, шагая с пешней следом за Иваном и за Федюшкой, нагруженными разными рыболовными снастями.
– Не-ет, до весны еще далеко. Тут до шуги-то еще одна зима пройдет.
Неподалеку от острова Иван и Егор проломали старые проруби, выгребая льдинки берестяной чумазкой[37].
– А ты, Иван Карпыч, откуда знаешь, что тут рыба есть? – спросил Федюшка.
– Как же! Это уж я знаю. Я тут все тропинки в Амуре знаю.
В крайней проруби Бердышов утопил веревку, а из другой зацепил ее «нырилом», длинной палкой с сучком на конце, наподобие багра. Протянув веревку подо льдом между несколькими прорубями, он продернул следом за ней сеть и установил ее. Так же Иван поставил и снасть – длинную хребтину с ответвляющимися от нее поводками. К этим поводкам прикреплены были балберы и большие ненаживленные крючки с остро отточенными лезвиями, рассчитанными на поимку крупной рыбы.
Когда мужики возвратились в поселье, солнце уже село, и где-то в стороне Бельго из синего сумрака выплыла меж склонов большая багровая луна, перепоясанная тонким синим облаком. Морозный ветер так нажег и настудил рыбаков, что у Егора окоченели ноги, и он не помнил, как добрался до жаркой и душной землянки.
– Нос отморозил, потри-ка снегом, – сказала мужу Наталья, когда он выложил из мешка пару осетров.
Егор вышел из землянки, надломил голой рукой корку на сугробе, набрал в застывшие пальцы горсть крупитчатого сухого снега и растер им лицо до боли. Однако поздно было оттирать побывавшее в тепле лицо. Обмороз не проходил. Пришлось бабке после ужина помазать ему щеки кабаньим салом.
– Как же это ты недоглядел! – говорила Наталья. – Теперь лицо мерзнуть станет.
– Завтра бери чепан, да езжайте на коне, – наказывал дед. – Поди, и огонь на льду развести можно.
На другой день мужики запрягли Саврасого и поехали на реку. На снасть попала крупная калуга. Подтянутая к проруби, она заходила ходуном. В водовороте то и дело всплывали ее бьющиеся плавники и жирная спина с зубчатой хребтиной. Калуга ярилась, но острый крючок, вонзившийся глубоко в белое брюхо, не отпускал ее.
– Кабы не сорвалась, – беспокоился Егор, крепко держа веревку.
– Не-ет. На утине-то зазубрик, никуда не соскочит с него. Только шибко не давай ей дергаться, подпускай снастину-то…
Бердышов изловчился, вонзил в калугу багор. Рыба забилась, вышибая столбы брызг из проруби. Ветер, схватывая их, тотчас морозил, и одежда мужиков покрывалась чешуей из пупырчатых ледяшек, а вокруг проруби намерзала скользкая ледяная осыпь.
– Смотри, Егор, не оступись, а то утащит. Ну, что же ты дуришь? – уговаривал Иван бьющуюся калугу, вытаскивая ее на лед. – Сама себе в тягость стала, так разожралась. Столько жиру зря таскать – с ума сойти!
Калуга была хрящеватая и жирная, величиной с небольшую лодку-однодеревку. Взметнув хвост и заиндевелые плавники, она ощерила пасть, оттопырила жабры и выкатила глаза. Рыба застыла в напряженном изгибе, сгорбатив пилообразную хребтину, словно силясь сбросить с себя ледяную корку. Казалось, мороз мгновенно охватил ее, запечатлев исступленное отчаяние. Мужики с трудом, как тяжелое бревно, взвалили рыбину в сани и вместе с мелочью, попавшейся в сетку, отвезли в поселье.
Там было радости и веселья всем семьям. Иван и Егор распилили калугу на козлах, потом большие куски разрубили.
У переселенцев вошло в обычай делиться между собой всякой добычей. Наталья выбрала для Барабанихи самый жирный кусок и сама его отнесла, обезоружив этим завистливую бабу, не пожелавшую даже поглядеть, как рубят громадную рыбину.
По Иванову совету кузнецовские бабы вместе с Ангой затеяли пир. Решили стряпать калужьи пельмени и варить уху. В землянке было людно, шумно и весело.
Бердышов пошел за водкой. Даже Егор, на этот раз намерзшийся и наработавшийся досыта, чувствовал, что утро он провел не зря, и не прочь был выпить и повеселиться. Умывшись и вытерев обветренное лицо полотенцем, расчесав светлые усы и бороду, сидел он на лавке и поджидал Ивана.
Варится рыбка, едет Филипка, – подпевала под веселый треск лиственничных дров хлопотавшая у котла старуха.
В красной шапке, сам на лошадке,Детей своих благодарить…Больше всех доволен был хворый дед, ожидая, что от свежей и нежной рыбы ему полегчает.
– Эх, хороша ушица! – приговаривал он за обедом, прихлебывая из чашки.
– Из щуки-то вкусней, – вдруг с сердцем выпалил Васька.
Все засмеялись упорству маленького рыболова.
– Васька, обидно тебе, что мы калугу поймали, застрамили тебя с твоей махалкой и со щуками? Эх ты, ерш! – ткнул его Иван в бок.
– А ты чего дразнишься? Сам ерш! – Голубые глаза Васьки запалились злым холодком. – Вот захочу, наловлю осетров… – Парнишка тут же смолк, ухватившись за голову: отец стукнул его по лбу деревянной ложкой.
Петрован по-прежнему казался ко всему безразличным. Уплетая калужатину, он лениво морщился, косясь внимательными серыми, как у матери, глазами то на пьяневших, смеющихся взрослых, то на крепившегося, чтобы не зареветь, братишку.
– Ну, Петька-Петрован, что молчишь, как дурован? – дразнил его Федюшка.
Глава восемнадцатая
Соболь неумелым ловцам не давался. Единственной шкуркой раздобылся Федор Барабанов, вытащив убитого стрелкой зверька из чужой ловушки. Бердышову он сказал, что сам поймал соболя. Шкурка была рыжеватая, как и большинство амурских соболей; Иван оценил ее в три рубля. Федор отвез соболя в Бельго и выгодно променял китайцу на товар.
Легкость добычи распалила Федора. Он спал и видел удачное соболевание. Целыми днями бродил он с сыном по окрестной тайге, разыскивая соболиные следы и расставляя петли и ловушки. Он похудел, осунулся, скулы его заострились, а глаза поблескивали, как у голодного.
– Что, Федор, с добычей, что ль? – каждый раз окликал его Кузнецов, когда Федор с Санкой выходили из тайги.
– Не спрашивай, Кондратьич, – удрученно отмахивался Барабанов и останавливался.
Намолчавшись в тайге, он принимался долго и подробно рассказывать все свои приключения.
– Замаешься ты, гляди, лица на тебе не стало, – заключил Егор, выслушав его. – А тут Агафья одна без тебя лесины валила, робит, чисто мужик. Ты сам-то как, хлеба станешь ли сеять? Не перекинься совсем на промысел.
– Как же я без хлеба-то, куда же?..
– Тайгу, что ль, сохой поведешь? Избу из чего поставишь? Да и место не расчищено, солнышко-то не станет тебя ждать, Кузьмич.
– Затягивает охота, – говорил про Федора дед Кондрат. – Это как картежная игра. Продуться можно – без штанов останешься.
Каждый раз, намучившись в тайге, Федор зарекался охотничать.
– Пропади пропадом это зверованье, ни за что больше не пойду, с места мне не сойти, – клялся он и решал взяться за чистку леса.
Но проходило несколько дней, и Федора снова тянуло в тайгу. Он бросал работу, заготовлял припасы, чинил обувь и, набив котомку рыбой и сухарями и забравши с собой Санку, снова отправлялся на промысел.
Усталые, пробежав двадцать – тридцать верст на лыжах, Барабановы находили свои ловушки пустыми.
– Он, тятя, стороной обошел, – показывал Санка на обходной соболиный следок.
– Вижу, – вздыхал Барабанов и в печали рубил пихтовые ветви, разгребал снег и располагался отдыхать подле костра.
– Хоть бы нам опять гольдский лучок найти, – подговаривался Санка.
– Хитрый же ты, сукин сын, растешь, – ворчал на него отец. – Ты поймай соболя-то, а чужого стащить всякий сумеет.
В неудачах своих Федор в душе винил Бердышова, подозревая, что тот таит от него настоящее устройство ловушек и показывает не то, что надо.
– Может, он шутит надо мной, изголяется или боится передать настоящее правило и только зря меня по тайге гоняет, – предполагал Федор.
На то было похоже. Иван каждый раз высмеивал его за неудачное соболеванье.
– Опять никого не поймал? – с насмешливой уверенностью спрашивал он.
– Ведь и ходил соболь, трогал петлю и стрелку спустил, но не попал, – с досадой рассказывал Барабанов. – Значит, чего-то не так мы настораживаем, – значительно вскидывал он брови. – Не все, что ль, ты мне рассказывал, Иван Карпыч? – Он умоляюще смотрел на Бердышова, словно просил его открыть тайну лова соболей. – Скажи: может, какое слово есть?
Иван лишь посмеивался.
– Прошлый-то раз посчастливилось тебе, это прямо счастье ить! Однако, какой-то соболь дурной был. А то в твои ловушки заместо соболей-то все рябчики, да крысы, да бурундуки попадают.
– Помяни мое слово, Иван Карпыч, все же я этих соболей осилю. Не сойти мне с места! Коли не перейму от людей, так сам, своим умом достигну. Тогда уж засоболюю. – И Федор, меняя выражение лица, спрашивал Ивана ласково и умоляюще: – А может, возьмешь меня с собой на охоту?
– Вдвоем в тайгу идти – охоты не будет. С Ангой хожу – ее тоже в балагане оставляю, или она сама по себе охотничает. Да как с тобой пойдешь? А если вдруг тигра? Не выдашь? У нас, паря, кто товарища выдал – тому пулю. Ты со мной и сам ходить не станешь, а уж я тебе и так все показал! Какой тебе еще холеры надо?
Федор не добился от Бердышова толку и решил ехать к гольдам учиться у них охоте на соболей. Кстати, нужно ему было заехать к китайцу в лавку, отдать лис и десяток белок.
В тихий день, заложив Гнедка в розвальни, покатил он с Санкой в Бельго.
– Еще соболь есть – нету? – спросил его Гао, перебирая привезенные меха.
– Нету, братка, эти дни соболевать я не ходил.
Торгаш знал, что Федор ходит на промысел. Гао даже догадывался, что он взял соболя из чужой ловушки. О том, что делают додьгинские новоселы, лавочнику подробно доносили его покупатели – мылкинские гольды, соседи уральцев. Недавно брат Гао, толстяк Васька, был в Мылках, и тамошний богач Писотька Бельды жаловался, что у него в тайге кто-то разорил самострел и украл соболя. Охотники ходили по следу воришки и достигли додьгинской релки. Подходить к землянкам они не решились, но, возвратившись к себе в Мылки, поклялись при удобном случае отомстить новоселам за все обиды и утеснения, причиненные им в эту осень и зиму.
Бердышова ни гольды, ни китаец не подозревали в воровстве. Все знали, что он охотится, как гольд, и в тайге ничем от них не отличается. Гао Да-пу полагал, что это был Федор, незадолго перед этим привозивший ему шкурку соболя. Торговец никому об этом не сказал, чтобы зря не обидеть покупателя, распространив про него дурную весть.
На счастье Федора, между Мылками и Бельго были нелады из-за кражи невесты, и сношений между этими стойбищами не было. Мылкинские сторонились бельговских и своих новостей им не передавали, так что бельговские ничего худого про Федора думать не могли и не знали о краже в тайге.
– Тебе соболь лови не могу, – язвительно и громко заявил китаец.
– То есть как это ты сказал?
– Люди говори: тебе сам лови не умей, тебе шибко хитрый – чужой ловушка трогал.
– Ты что это? – раскрыл Барабанов рот. – Одурел? – криво усмехнулся он через силу, хотя сердце его замерло от страха, что поступок его может стать известен по всей округе. «Господи, прости! Что я наделал!» – с ужасом подумал он, и мысли его заметались в поисках исхода.
– Ловушку трогаешь – хозяин догоняет и тебя убьет, – наставительно говорил торгаш.
– Не пойму я тебя, – чесал затылок Федор, стараясь улыбнуться, но вместо улыбки получилась виноватая гримаса.
Лавочник заметил, что вору стало не по себе.
«Нет, не признаюсь! Я не я, и лошадь не моя, – ободрял себя Федор. – Мало ли кто в тайге мог взять? Какое мое дело, ничего не знаю».
– Сам знаешь, чего моя говори, маленький, что ли? Русский язык не понимаешь, что ли? – раскричался китаец и вдруг, понизив голос, довольно добродушно заявил: – Ну, ладно, не бойся, моя никому не говори. Тебе так больше делай не надо. Моя знакомых не обижает, – подмигнул он Федору. – Моя все кругом знает – ничего никому не говорит. Тут Бельго никто не знает, моя никому не сказала, тебя не хочу обижай. Давай лису, уступай дешевле, – неожиданно заключил он.
«Силен тут торгаш!» – подумал Федор, выбравшись из его лавки, как из печки после парки. Удрученный неудачной меной и упреками лавочника, он в раздумье направился к Удоге.
Старик встретил его с распростертыми объятиями. Накануне Удога вышел из тайги после длительной зимней охоты, чтобы запастись пищей и снова идти на промысел. У него было прекрасное настроение, старик наслаждался семейным счастьем; сидя на теплых канах в чистом халате на чистом камышовом коврике, сплетенном искусными руками молодой жены, он держал у себя на коленях маленького Охэ и с нежностью обнюхивал его стриженую головку. На столике появилась вареная сохатина, тала из свежей рыбы, чумизная каша с кетовой икрой и картонная сулея с китайской водкой.
Айога, довольная, румяная, с блестящими глазами, хлопотала у очага.
Федор подвыпил, и когда его беспокойство и сомнения несколько пережгло крепким ханшином, он стал жаловаться Удоге на свои охотничьи неудачи.
– Соболь никак мне, братка, не дается. Лису беру, белку дробинкой в глаз попадаю, – привирал он, – кабана этого возьму, только бы встретить, рысь понимаю, всякого зверя, а вот соболя – никак. За всю зиму единую шкурку добыл, только зря распалился.
– Его просто как возьмешь не умеючи-то? – с достоинством, чистым языком говорил Удога. – Соболя ловить – учиться надо, не легче, чем русской грамоте. Меня отец долго учил стрелку ставить. Я был маленький, пошли однажды на охоту, снежок уж был. Зверь опустит стрелку, но в сторону…
– Вот, вот, – подхватил Барабанов, – то-то и есть…
– Надо прямо-прямо на грудь стрелку наводить, – наставляя на сердце палец, показывал гольд.
– А-а, ишь ты! – приговаривал Федор. – Вот оно что!
– Ладили мы, ладили концы на мерку. «Нет, – отец говорит, – плохо». Палкой хотел меня лупить. «Никуда не годишься, говорит, никогда охотником не станешь». Вечером сидим мы в балагане, отец курит, грозится меня убить. Беда, – потряс гольд седой головой точно так, как это делал Иван, – горячий у нас отец был. Ну вот… Прошло три дня, на мою стрелку соболь попал. «Ну, слава богу, – отец говорит, – это я тебя учил, ты умный какой парень. Сразу видно, что мой сын!»
– Григорий Иваныч, ты бы взял меня с собой на промысел, учил бы ловить соболей, – стал просить Федор. – По правде ведь признаться, мы затем и приехали. В ученье к тебе с сыном, как к дьячку за грамотой.
К Удоге стали собираться его сородичи. На этот раз все охотники были дома. После долгих скитаний по тайге они возвратились, чтобы хорошенько отдохнуть, «погулять», побыть с семьями и, нагрузившись юколой, снова двинуться на отдохнувших собаках в тайгу.
Кроме Григория и его брата Савоськи, бывшего в этот день где-то в отлучке, Федор не знал еще никого из бельговских охотников и всех их видел впервые. За зиму он отвык от народа и теперь с любопытством наблюдал гольдов. Их набралось непривычно много, и старых и молодых, закаленных морозами и ветрами, темнолицых, худых, в одеждах, пахнущих звериным салом, чесноком, псиной и табаком, с китайскими трубками в крепких зубах. Они принесли с собой в тихую фанзу дух тайги и охоты; чувствовалось, что в этих сухопарых, подвижных зверобоях была вся напряженная сила племени, его вечная, неумирающая ловкость, сноровка. Перед Федором был живой клад охотничьих примет, уловок, навыков. Для них не существовало тайн тайги. Мужику надо было разузнать про многое такое, что озадачивало его на промысле и на что он не мог найти до сих пор ответа. Он силился вспомнить, о чем надо расспросить их, но, как на беду, мысли его разбегались от жадности, как завидущие глаза при виде богатства, и он не мог ничего расспросить толком.














