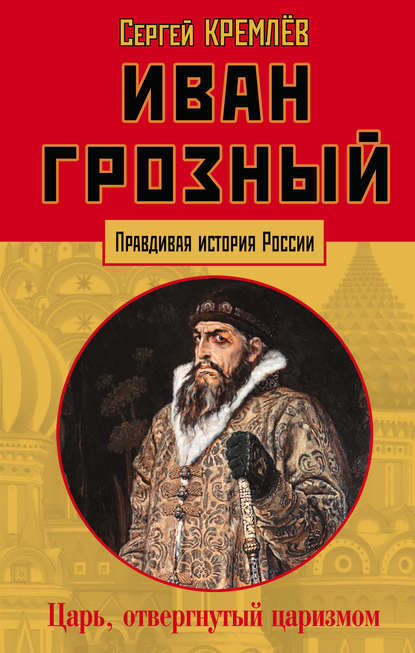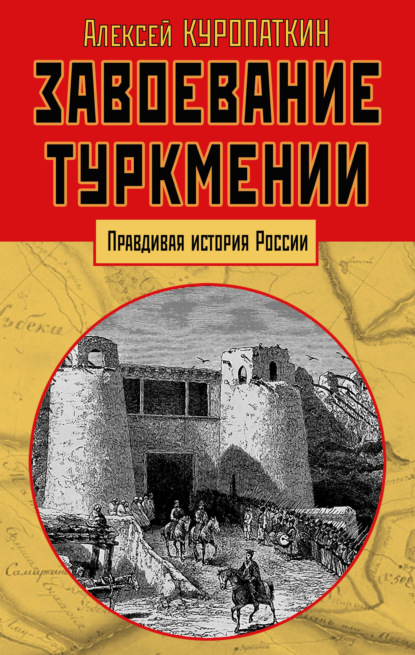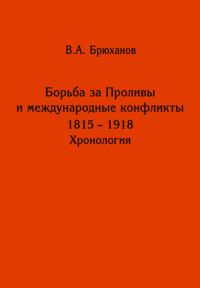Полная версия
Мифы о восстании декабристов: Правда о 14 декабря 1825 года
В середине 1770-х годов князь М. М. Щербатов писал: «По причине великого числа народа, населяющего сию губернию[4], многие деревни так безземельны остаются, что ни с каким прилежанием не могут себе на пропитание хлеба достать и для того принуждены другими работами оный сыскивать» — последнее тогда выглядело и почиталось просто неприличным!
Поразительно, но эта ситуация, абсолютно выясненная еще в первое десятилетие правления Екатерины II, оставалась затем много позднее – вплоть до начала XX века и даже во время практического осуществления коллективизации в первой половине 1930-х годов – абсолютно неизвестной и непонятной почти для всех российских мыслителей!
Екатерина не ограничилась агитацией в печати. Она собрала для обсуждения этой проблемы нечто вроде парламента; депутатов туда выбирали все сословия, кроме крепостных. Официально он назывался «Комиссией об Уложении» и формально был призван реформировать устаревшие законы еще Соборного Уложения 1649 года – также продукта деятельности депутатского собрания, не созываемого с тех пор более века (очень любопытная циклика!).
Екатерининский парламент с большой помпой открылся 30 июля 1767 года зачтением «Наказа» Екатерины, в котором (помимо всяческих соображений на разнообразные темы) достаточно ясно призывалось к отмене крепостного права. Реакция депутатов обескуражила царицу: из четырех сотен депутатов на ее призыв положительно откликнулось лишь двое-трое.
Почти все депутаты, кроме дворян, и так имеющих это право, потребовали и себе возможность владеть крепостными.
Екатерине оставалось только свернуть деятельность этого парламента – под предлогом войны с Турцией.
Что же касается российских крестьян, то они восстали – почти сразу, как только поняли смысл происшедших перемен: мелкие вспышки возмущений возникали по всей России с самого 1762 года. Осознанная несправедливость стала и мотивом, и движущей силой Пугачевщины, разразившейся в 1773–1775 годы.
Пугачевщину, как и всякое массовое крестьянское движение, удалось подавить. В тогдашней гражданской войне правительство победило. Но и впредь готовность мужиков силой постоять за себя и своих близких стала естественным ограничением произволу, официально установленному в России, – ниже мы к этому вернемся.
Поражение освободило Е. И. Пугачева от необходимости выполнять свою удивительную социальную программу: он обещал отменить налоги и в то же время взять чиновников на полное государственное обеспечение. Впрочем, возможно, попытки ее воплощения и, как следствие, полный развал экономики в тылу восставших ускорили гибель Пугачева. Последнего подстерегла иная судьба, нежели позже большевиков, хотя и он, и большинство вождей Октября 1917 года в конечном итоге завершили жизненный путь одним и тем же – стали жертвами пыток и казней! Случайно ли это?
Отметим также, что в разных исходах двух гражданских войн сыграл важнейшую роль чисто географический фактор: большевики, развалив российскую экономику не менее решительно, чем Пугачев, сохранили, однако, контроль над наиболее развитым центром России. Пугачев же действовал на практически тех же самых окраинах, которые в 1918 году достались белым, где создать эффективный тыл действующей армии было, естественно, значительно труднее.
Дворяне были главными действующими лицами одной из сторон в обеих гражданских войнах, но в XVIII и XX веках им достались противоположные половины все той же шахматной доски!..
Пугачевщина сплотила дворян вокруг верховной власти, к которой до этого, ввиду либеральных поползновений Екатерины, не было должного доверия.
Прямо накануне Пугачевщины был предан одним из участников, П. В. Бакуниным, заговор, в котором состояли виднейшие вельможи братья графья Н.И. и П. И. Панины, фельдмаршал князь Н. В. Репнин и даже знаменитая президент Российской Академии княгиня Е. Р. Дашкова. Душой заговора был Д. И. Фонвизин – известнейший идеолог и писатель, дядя одного из будущих руководителей декабристов. Состоял в заговоре, как и положено было, наследник престола – великий князь Павел Петрович.
Учитывая напряженнейшую политическую ситуацию, Екатерина простила заговорщиков, тут же включившихся в борьбу против восставшего крестьянства. Разумеется, это нужно поставить Екатерине в заслугу: понятно, как на ее месте действовали бы Иван Грозный, Петр Великий или Сталин – именно с учетом напряженной политической обстановки. Не простила Екатерина только своей невестке – первой жене Павла Наталии Алексеевне (ох уж эти женские страсти!): по слухам, последнюю отравили или каким-то другим способом лишили жизни.
Впоследствии поневоле создавшийся союз был закреплен реформами 1775 и 1785 годов, разделившими власть в уездах и губерниях между назначаемыми правительством главами администрации и выборными представителями дворян.
Екатерина впредь на крепостное право не замахивалась и даже шла крепостникам навстречу, распространив его в 1783 году и на Украину – вот когда, наверное, украинские мужики пожалели, что вовремя не поддержали Пугачева!..
Верховная же власть целиком оставалась в царских руках, что совсем нетрудно понять после неудачного эксперимента 1767 года.
Бедный и богатый крестьянин – такие же традиционные персонажи русских народных сказок, как царь, поп и купец. Общинное землепользование препятствовало неравенству в земледелии лишь отчасти, тем более не ограничивая его прогресс в иных сферах деревенской самодеятельности.
При Екатерине II дворянские идеологи уже вполне четко указывали на рост влияния кулачества в российских деревнях:
«Такие сельские жители называются съедалами; имея жребий[5] прочих крестьян в своих руках, богатеют на счет их, давая им взаймы деньги, а потому запрягают их в свои работы так, как волов в плуги; и где таковых два или один, то вся деревня составлена из бедняков, а он только один между ими богатый»;
«Зажиточные как собственных, так и соседних деревень крестьяне всегда имеют случай недостатками бедных корыствоваться. <…> Богатый, ссужая бедного своим скотом, получал чрез то работных людей больше, чем на своем поле употреблять мог, и для того у бедного своего соседа нанимал пустую его землю за безделицу».
Уже в XVIII веке русские теоретики начали понимать, что социальные процессы нельзя пускать на самотек: анархия частного производства, которое велось миллионами русских крестьян, не могла не порождать соответствующих последствий.
Богатые продолжали богатеть, а бедные – беднеть, как и должно было происходить при всякой свободной конкуренции. Неудивительно, что ответственно мыслящие русские феодалы возмущались такой несправедливостью (справедливость — вообще в крови у русских!) и стремились к поддержанию социального равенства.
В 1767 году один из дворянских идеологов, князь М. М. Голицын, предписывал управляющему своей вотчиной отнимать у богатых крестьян принадлежащие им земли и наделять ими бедных, «дабы со временем таковые неимущие могли быть подлинные и совсем довольные крестьяне, а не гуляки» — налицо явная попытка применения руководящего принципа социализма: не давать работать тем, кто делает это хорошо, и обеспечивать рабочими условиями тех, кто работать все равно не будет – с соответствующими практическими результатами.
То, что в данном конкретном случае глашатаем социализма выступает не государство, а крупный землевладелец и рабовладелец, принципиальным не является: разница лишь в масштабах (как между большим социалистическим государством и маленьким), а чистота принципа вполне соблюдена.
Позднейший миф (разделявшийся В. И. Лениным) о том, что в старой России господствовало (или хотя бы было сильно распространено) патриархальное натуральное хозяйство, не имел реальных основ в российской действительности.
Вся российская экономика была рыночной, поскольку еще с XVI века – с 1551 года! – официально все государственные подати в России собирались исключительно в денежной форме. Следовательно, каждый налогоплательщик, дабы уплатить налог, обязан был что-то продать. Другое дело, что у многих сельских налогоплательщиков оставалось не так уж и много денег для самих себя, а потому и помещик, и крестьянин нередко вынужденно ограничивали собственное потребление продукцией собственного хозяйства. Иные крестьяне могли всю жизнь не держать денег в руках: налоги за них уплачивали другие – помещик, собственные односельчане, различные посредники (в том числе евреи); крестьянину же оставалось расплачиваться натурой или отработкой.
Зато все, кто реально имели дело с рынком, четко просекали его противоречивые парадоксы и несправедливость: дополнительное вложение труда и капитала совершенно не гарантировало извлечения большей выгоды.
Еще в 1769 году А. П. Сумароков – известный литератор и основатель русского театра – в журнале «И то и сье» призывал соблюдать принцип неизменных цен на внутреннем рынке.
Позднее, уже в первой половине XIX века такие взгляды стали господствующими.
Иным деревенским богатеям удавалось выбиться даже в миллионеры. Однако избавиться от помещика-кровососа нередко бывало сложнее, чем совершить предпринимательское чудо. Грамотные и хладнокровные феодалы стремились создавать целые системы для эксплуатации капиталистов, возникавших среди их бесправных рабов.
Самым классическим примером такой системы было село (ставшее затем городом) Иваново-Вознесенское, принадлежавшее Шереметевым; все производство и вся торговля в этом крупнейшем центре осуществлялись графскими крепостными, среди которых было и немало богатеев.
Это был как бы целый капиталистический город, находившийся в рабстве у феодала-оккупанта, причем одни рабы были рабами немногих других! Один из последних, Е. И. Грачев, владел в конце XVIII века целым имением в 3000 десятин[6] земли, со 181 мужской и 200 женских душ крепостных; сам он, будучи владельцем мануфактуры, оставался при этом крепостным Шереметевых.
Об иных, не рисковавших публично демонстрировать свое богатство, упоминала и Екатерина в «Наказе»: «Они закапывают в землю свои деньги, боясь пустить оные в обращение, боятся богатыми казаться, чтобы богатство не навлекло на них гонений и притеснений».
И это легко понять: положение тогдашних крепостных миллионеров иногда бывало просто плачевным. Вот как об этом пишет, например, один из них – предприниматель уже 1820-х годов Николай Шипов: «мы с отцом платили помещику оброка свыше 5000 руб[лей][7] ассигнациями][8] в год, а один крестьянин уплачивал до 10 000 руб.
Казалось бы, при таких распорядках состоятельным крестьянам следовало бы откупиться от помещика на волю. Действительно, некоторые и пытались это сделать, но без всякого успеха. Один крестьянин нашей слободы, очень богатый, у которого было семь сыновей, предлагал помещику 160 000 руб., чтобы он отпустил его с семейством на волю. Помещик не согласился. Когда через год у меня родилась дочь, то отец мой вздумал выкупить ее за 10 000 руб. Помещик отказал. Какая же могла быть этому причина?
Рассказывали так: один из крестьян нашего господина, некто Прохоров[9] имел в деревне небольшой дом и на незначительную сумму торговал в Москве красным товаром. Торговля его была незавидная. Он ходил в овчином тулупе и вообще казался человеком небогатым. В 1815 г. Прохоров предложил своему господину отпустить его на волю за небольшую сумму, с тем, что эти деньги будут вносить за него, будто бы, московские купцы. Барин изъявил на то согласие. После того Прохоров купил в Москве большой каменный дом, отделал его и тут же построил обширную фабрику. Раз как-то этот Прохоров встретился в Москве с своим бывшим господином и пригласил его к себе в гости. Барин пришел и не мало дивился, смотря на прекрасный дом и фабрику Прохорова; очень сожалел, что отпустил от себя такого человека и дал себе слово впредь никого из своих крестьян не отпускать на свободу. Так и делал», – вот она, Россия!..
Чтобы эта цитата стала понятней, укажем, что в те времена жалование провинциального мелкого чиновника (нередко – дворянина) обычно составляло от 4 до 10 рублей в месяц, и на эти деньги при собственном домике и огородике можно было содержать семью (с учащимися детьми) отнюдь не впроголодь.
Что же касается обычных оброчных крестьян, то подсчитано, что их средний заработок на протяжении всей первой половины XIX века составлял 20–30 рублей в год с выплатой 20–40 % из них помещику в качестве оброка – и при сельскохозяйственной работе на своем участке, и при заработках на отхожих промыслах – в промышленности, торговле и в сельском хозяйстве.
В отличие от не названного по имени владельца Прохорова и Шилова, некоторые другие не были столь корыстолюбивы и завистливы.
Например, как-то к П. Б. Огареву, отцу великого революционера Н. П. Огарева, явились крепостные принадлежавшего ему села Беломута с предложением отпустить их на волю за баснословную сумму. Один из них давал только за собственный выкуп 100 000 рублей серебром. Но барин брезгливо отказался от денег и предпочел оставить крестьян себе, гордясь тем, что среди его подданных есть и миллионеры. Вот это – подлинное дворянское благородство!
Некоторым миллионерам повезло – тому же В. И. Прохорову или С. В. Морозову; последний, начав карьеру рядовым ткачем, основал свою фабрику еще в 1797 году, а в 1820 году уговорил своего владельца отпустить его на волю «всего» за 17 тысяч рублей.
До 1861 года и Шереметевы постепенно выпустили на волю более пятидесяти капиталистов, получив за каждого по 20 тысяч рублей выкупа в среднем – итого более миллиона. Но иным предпринимателям пришлось ждать свободы вплоть до 1861 года.
Один из таковых, хлебный торговец П. А. Мартьянов, накануне 1861 года был полностью разорен своим владельцем – графом А. Д. Гурьевым. Отказавшись от мысли восстановить свое дело, Мартьянов уехал в 1861 году в Лондон и примкнул к Герцену и Огареву. Мартьянов написал и напечатал в «Колоколе» «Письмо к Александру II» – монархический по чувству и идеологии, но антидворянский призыв к созыву «Земской думы», а затем издал брошюру на ту же тему.
Разочаровавшись и в лондонских революционерах, Мартьянов уехал назад в Россию, наивно полагая, что его выступления в пользу «земского, народного царя» не могут вызвать преследований. Дальнейшие события разворачивались стремительно: 12 апреля 1863 года его схватили на российской границе, 15 апреля заключили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, 5 мая Сенат присудил его на 5 лет каторжных работ и вечное поселение в Сибирь, 7 декабря его отправили по этапу. Мартьянов умер в 1865 году в Иркутске.
А. И. Герцен писал о нем в 1868 году: «Он пытался бежать; его засекли до смерти».
Нет ничего удивительного в том, что такие, как Прохоров, скрывали собственное богатство. Подпольные миллионеры советской эпохи, терзаемые КГБ, милицией и рэкетирами, едва ли имели основания позавидовать жизни своих собратьев крепостнических времен.
Разумеется, судьбы миллионов обычных крепостных – отнюдь не миллионеров! – были ничуть не лучше, но именно трагедии самого активного и предприимчивого слоя русского народа наиболее ярко характеризуют чудовищность тогдашнего положения народных масс…
Разлад двух цивилизаций – господской и народной – углублялся и поддерживался в России еще со времен Петра I исключительно ради своекорыстных интересов господ, изо всех сил и до последних возможностей цеплявшихся за сохранение своих привилегий и материального достатка.
Забота о сохранении тотальной неграмотности народных масс была одним из краеугольных камней помещичьей политики.
В начале 1770-х годов, например, широко рекламировались типовые инструкции деревенским управляющим, составленные ведущими идеологами тогдашней эпохи. Один из них, уже цитировавшийся Рычков, недвусмысленно формулировал: «весьма надобно и должно, чтоб управители и приказчики в каждом селе и во всей деревне, по самой меньшей мере одного человека знающего читать и писать содержали, и, выбирая от лучших мужиков робят мужеска полу от 6 до 8 лет, велели б учить грамоте и нужнейшим по христианской должности молитвам, а кои окажутся из них понятнее и надежнее, тех обучать и письму; однако столько, чтоб в деревне, сто душ[10] имеющей, писать умеющих крестьян более двух или трех человек не было; ибо примечается, что из таких людей научившиеся писать знание свое не редко во зло употребляют, сочинением фальшивых пашпортов и тому подобного».
Россия оставалась страной всеобщей неграмотности. Даже через сто лет, в 1867–1868 годах, среди призванных в армию рекрутов (молодые, здоровые мужчины!) умеющие читать и писать составляли жалкое меньшинство.
Только каждый третий, призванный тогда в столичной Петербургской губернии, был грамотен, менее 20 % таковых оказалось в Московской губернии, а менее 5 % — в порядке убывания в губерниях Тамбовской, Уфимской, Витебской, Харьковской, Казанской, Пензенской и Полтавской, в последней – только 2,8 %!
В то же самое время комплекс неполноценности, неизбежно порожденный знакомством российской верхушки с заведомо более высокой европейской культурой, постепенно изживался. Наиболее культурные слои, постоянно пополняемые импортируемыми с Запада зарубежными специалистами, уже к концу XVIII века чувствовали себя при сравнении с европейцами все более и более на равных.
К тому же и Запад в значительной степени терял очарование сказочно высокого превосходства: сперва кровавый ужас Великой Французской революции, затем антигуманизм промышленных преобразований в Англии, а потом и в остальной Западной Европе, также сопровождаемый революционными потрясениями, подрывали основы мечтательных иллюзий прозападно настроенных россиян.
После Пугачевщины в России на многие десятилетия установился политический застой, порожденный страхом рецидива крестьянских волнений.
Екатерина II отказалась от реформ, а дворяне, в свою очередь, вынужденно позабыли о собственных попытках изменить ситуацию в своих вотчинах и долго еще побаивались лишний раз взмахнуть кнутом или розгой – Пугачевщина, таким образом, кое-что изменила, но не все в лучшем направлении.
Вот это-то и оказалось наиболее значительным результатом эпохи, захватившей и два великих царствования – Петра I и Екатерины II, и многочисленные царствования монархов, пришедшихся на промежуточный период.
1
Бабушкины внуки
Екатерина II, царствовавшая более трети века, оказала огромное влияние на на всю российскую жизнь не только в период собственного правления, но и приблизительно треть века после того, причем это стало результатом ее совершенно сознательной целенаправленной деятельности. Она абсолютно бесцеремонно вмешивалась в жизнь своего сына, двух его старших сыновей и их жен, которых она сама выбрала для них среди множества германских принцесс. Для последних замужество за наследником российского престола или за его ближайшим родственником было высочайшей честью и желанным пределом личных притязаний.
Обстоятельством, вносившим элемент азартной игры в эту семейную возню, как раз и была неясность того, кто же из потомков великой императрицы окажется ее преемником на престоле. Никто из людей не бессмертен, поэтому рано или поздно Екатерина должна была уступить кому-то свое место. По действовавшему закону Петра I она могла назначить преемником любого.
Очевидно, игра в свое право выбора доставляла ей изрядное удовольствие, принуждая потенциальных наследников прибегать к единственному средству решить свою будущую судьбу – снискать благоволение матери или бабушки соответственно. Это и давало императрице в руки рычаги, орудуя которыми она могла добиться от ближайших потомков практически всего, что ей могло заблагорассудиться. Отношения же между ними, самым естественным образом, обострились до такой степени, что Павел и его сыновья могли быть только злейшими врагами друг другу – это и стало фактором, также безотказно определявшим все их личные отношения, в свою очередь сильнейшим образом влияя на расклад любых политических пасьянсов, раскладываемых на верхах российского государственного управления.
Так продолжалось до самого декабря 1825 года, когда воцарился Николай I, родившийся в год смерти бабушки и не испытывавший, таким образом, ее личного влияния. Однако, поскольку до конца ее собственных дней влияние на него сохраняла его мать – невестка Екатерины и вдова Павла императрица Мария Федоровна (тоже в прошлом германская принцесса), а сами обстоятельства воцарения Николая в значительной степени определились напряженной враждой его старших братьев, то можно считать, что тень Екатерины продолжала царить над Россией до самого 1828 года – года смерти матери Николая.
Мало того, что объектом игр являлся тогда и российский престол, но вакантной оставалась еще и должность византийского императора, кесаря или царя в русском произношении. Российские самодержцы считали себя, как известно, правопреемниками императоров Византии, павшей за много веков до XVIII столетия, но возрождение Византии возбуждало вопрос о взаимной иерархии двух престолов, тем более что восстановление Византии могло произойти исключительно по воле русских царей.
Во времена Екатерины II это не выглядело утопией, хотя русские только-только укрепились на северных берегах Черного моря, веками до этого остававшегося вотчиной Турции, ее внутренним морем. Но соотношение сил было таково, что завоевание русскими Босфора, Дарданелл и Константинополя представлялось вопросом ближайших лет. В конце царствования Екатерины до этого, казалось, не хватило каких-то незначительных военных усилий. Но позднее все существенно изменилось.
Дело не в том, что Турция стала сильнее – она-то как раз становилась слабее год от году, будучи раздираема освободительной борьбой покоренных ею народов. Но с легкой руки Наполеона, обратившего особое внимание на Константинополь, он попал в зону постоянных забот европейских политиков, осознавших, что захват Россией Проливов грозит ее укреплением в бассейне Средиземного моря – с перспективой дальнейшего прочного выхода в Атлантический и Индийский океаны. Этого постарались не допустить – и не допустили!
Но во времена Екатерины столь неприглядные перспективы еще не просматривались. Поэтому она, жонглируя двумя коронами (российской и византийской) и тремя претендентами на них – сыном и двумя его сыновьями, могла устроить такой цирк, что у участников и ближайших зрителей только дух захватывало!
Ее напряженные отношения с сыном ни для кого секретом не были, и, возбуждая у сына жуткую вражду и зависть, она подчеркнуто благоволила к старшему внуку – Александру. Второй же внук был ею же при рождении назван Константином – с явным намеком на возможное возведение на византийский престол. При этом она озаботилась женитьбой внуков – дабы придать им статус самостоятельных мужчин – глав семейств. Обоих она женила в невероятно юном возрасте, и обоим эти женитьбы впрок не пошли.
Старшего внука, Александра Павловича, родившегося 12 декабря 1877 года, женили уже в 1792 году на Баденской принцессе Луизе-Марии-Августе, принявшей в православии имя Елизаветы Алексеевны. Мужу не исполнилось пятнадцати лет, а жене было всего тринадцать. Напомним, что аксельратов тогда не было, и они были только детьми – им бы вместе еще в куклы играть. А вместо этого пришлось им быть куклами у его бабушки.
Константин Павлович, родившийся 27 апреля 1779 года, также был женат с 1796 года, когда ему, правда, уже исполнилось семнадцать лет, а невесте – почти пятнадцать. Но «семейная жизнь», точнее – семейная порча отношений началась у них еще раньше, поскольку невеста в числе прочих претенденток, в том числе родных сестер, принцесс Саксен-Заальфельд-Кобургских (одна из них стала позднее матерью великой королевы Виктории Английской), была привезена «на смотрины» в Петербург заранее, а будучи выбранной, осталась в российской столице в качестве невесты. Очевидцы рассказывали: «Страсть Константина Павловича ко всему военному отразилась на его отношении к своей невесте Юлии Кобургской. Зимой он являлся к ней завтракать в шесть часов утра, приносил с собой барабан и трубы и заставлял ее играть на клавесине военные марши, аккомпанируя ей принесенными с собою шумными инструментами. <…> это было единственным выражением его любви к ней. Смесь ласки и неудержимого стремления причинить физические страдания проявлялась у Константина Павловича в отношениях к невесте.
Юная принцесса подвергалась одновременно и его грубостям, и его нежностям, которые одинаково были оскорбительны. Он ломал ей иногда руки, кусал ее, но это было только предисловием к тому, что ожидало ее после замужества», – остается ли удивляться непрочности этого брака и его будущему распаду?
Некую дозу садизма (весьма индивидуальную) каждый человек получает от рождения. Но позднее то или иное воспитание усиливает или ослабляет ее. Константин по всеобщему мнению был изрядным подонком во всех отношениях, и это в значительной степени усиливалось бабушкиным влиянием, хотя иногда Екатерина, спохватившись, выражала опасения по поводу необузданного нрава второго внука. Тем не менее она, похоже, сознательно культивировала в нем ярко выраженные подлейшие черты.