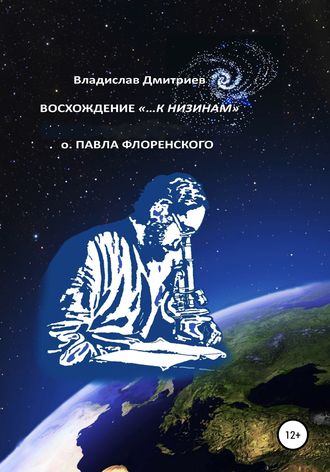 полная версия
полная версияВосхождение «…к низинам» о. Павла Флоренского
А пока ему приходится заниматься проблемой водорослей и решением множества мелких и крупных проблем, что приводит его к сравнению с героями известного литературного произведения, к которому в своих письмах он будет прибегать неоднократно: «8–18 фев. 1935. … Приходится изворачиваться, совсем как на «Таинственном острове» Жюля Верна. Только нет всегда вовремя подоспевающего капитана Немо, и потому промышленность без ресурсов идет не так гладко, как в романе». Но эта его деятельность приносит свои плоды: «…В Йодпроме я внес ряд рационализаторских предложений и большая часть их уже освоена производством. В частности, построены по моему проекту некоторые аппараты. … Разработанный мною процесс, … удался и с завтрашнего дня мы пускаем его в производство. Вместе с тем я, вероятно, переселюсь в лабораторию, чтобы проводить там работу по использованию водорослей».
Философ, теоретик П.А. Флоренский не гнушался никакой тяжелой и прикладной работы, относясь к этому как необходимому во всякой творческой деятельности процессу, что также составляло сильную сторону его натуры. И снова в этом письме Кириллу он вспоминает Вернадского: «Если придется увидеть Вл. Ив., то спроси его о судьбе моей статьи по картографии и его мнение о присланных работах по замерзанию воды. Я крайне извиняюсь перед ним, что не мог написать ему о «Воде», т.к. книга осталась на станции, … Скажи ему, что я крайне заинтересован ею и жалею только, что недостаток времени не позволил ему изложить богатейший материал, у него имеющийся, более конкретно и сочно. Книга его должна была бы быть втрое толще. Большинство мыслей, им высказываемых, очень созвучны мне, я думал о том же, хотя и подходил с неск. иных отправных пунктов».
Вот так их выводы о воде совпали, хоть и по-разному они шли к своим результатам, подтверждая ранее приведенный тезис Флоренского, что у каждого таланта свой метод нахождения истины в широком смысле этого слова.
Рамки писем не давали возможности писать большие работы или исследования, но, тем не менее, в них встречается большое количество интересных фраз и обобщений. Зачастую в письмах, которые посвящены не научным исследованиям или описаниям научных фактов, где он предельно точен и конкретен, а в письмах, где он пишет об искусстве, творчестве писателей и поэтов. Наиболее часто это происходит в ответах на задаваемые детьми вопросы, например: «1935.II.8. Дорогая Олечка, ты просишь написать тебе о Тютчеве» и далее в письме вот такой философский пассаж: «… Для индивида уничтожение есть страдание и зло. В общем же строе мiра, т. е. вне человеческой оценки, это ни добро, ни зло, а благо, ибо таков закон жизни. Хаос у Тютчева, как и у древних греков, есть высший закон мiра, которым и движется жизнь. Без уничтожения – жизни не было бы, как не было бы ее и без рождения. Человечество со всеми своими установлениями и понятиями есть одно, хотя и важнейшее, детище хаоса». И в заключении письма уже совет мудрого отца, передумавшего и пережившего многое: «Надо много-много работать, учиться, перерабатывать написанное, снова передумывать и снова писать, да и тогда полное удовлетворение получается редко. Видишь множество дефектов, которых б.м. и не заметят другие, но которые сам хорошо сознаешь. “Ты сам свой высший суд”. Посмотри, даже Пушкин, и он переделывал десятками раз, прощупывая каждое слово, меняя, добиваясь полной точности мысли и полного совершенства звука. Писание – дело трудное».В середине февраля у него новый переезд поближе к химической лаборатории: «1935.II.22. … Вот уже 6-й день, как я живу на новом месте. … Работаю над разными вопросами химии, отдельными подготовительными участками общей работы по водорослям, а также доделываю некоторые работы для мастерской».
Из письма можно узнать как условия его работы, так и исторические факты: «Кроме лаборатории имеется еще одно строение. В лабораторном помещении 6 комнат. 3 – под лаборатории, 2 – жилые, а 1 – кухня и зверинец одновременно, звери живут также в биологической лаборатории и на чердаке – кролики. Весь дом – каменный, еще монашеской стройки; … Все место называется Филипповским скитом, т. е. называлось, а теперь зовется Биосадом. В XVI в. здесь жил Филипп Колычев, впоследствии митрополит Московский, которого удушил Малюта Скуратов. Находясь на Соловках, Филипп проявил большую энергию и хозяйственность: соорудил систему каналов между бесчисленными здешними озерами, механизировал разные предприятия – мельницы, возку, подъем тяжестей, вообще занимался строительной и инженерной деятельностью». И понимая, что его письма похожи и на отчеты, и на научные наблюдения, и философские зарисовки, пишет жене: «…Хотелось бы написать тебе что-нибудь такое, что тебя утешило бы и взбодрило, но не умею, моя милая, я этого. Моя же жизнь проходит в работе и хлопотах по работе, так что я ничего, кроме лаборатории, не вижу».
С детьми ему проще, так как роль отца для него это, прежде всего, роль воспитателя и учителя, а потому старшему сыну пишет: «Дорогой Кирилл, за неимением чего-либо более интересного, расскажу тебе о подработанном мною определении «полиольного числа», т. е. количественно характеризующего содержание многоатомных спиртов, начиная с глицерина и далее. Мне понадобилось оно для определения маннита в водорослях. Определение многоатомных спиртов основано на их способности замещать водород гидроксила медью в сильнощелочной среде…» и так далее, с приведением формул и описаний.
Другому сыну другие наставления и советы, которые имеют глубокий смысл для его и не только его научных работ: «Дорогой Вася, … по собственному опыту я вижу, что накопление большого материала впрок ведет к тому, что большая часть его остается непроработанной и не приведенной в порядок. Старайся … более рационально тратить труд, т. е. поскорее оформлять найденное. Более крупные обобщения и более полная систематизация придут в свое время, и ничто не мешает потом вернуться к старому, пересмотреть, дополнить и исправить сделанное, но уже более сознательно и целеустремленно. … Старайся при исследовании вовлекать в круг рассмотрения возможно больше различных характеристик и сопоставлять их между собою. Тогда сами собою будут приходить выводы, которые иначе потребовали бы большого напряжения и удачи. Особенно важно пользоваться различными физическими способами изучения вещества, т.к. химия дает слишком бедные, слишком далекие от действительного вещества характеристики, – говорит неконкретно и слишком вообще».
Ну, а дочери Ольге, как всегда, об искусстве, например, разбор художественной композиции: «1935.II.22. … когда читаешь какое либо произведение, старайся понять, как оно построено в отношении композиции, и именно каково целевое назначение той или другой подробности композиции. Особенно поучительны в этом отношении разрывы изложения, повторения, сдвиги во времени и пространстве и, более всего, противоречия. … Когда же внимательно вглядишься, то увидишь, что это противоречие служит к усилению эстетического действия произведения, что оно, противоречие, заостряет впечатление». И тут же обосновывает это примером и сравнением искусства с наукой, к которому он прибегает не раз: «Можно сказать, что чем величественнее произведение, тем более в нем можно найти противоречий, и это не раз давало повод глупым критикам обвинять великих творцов (начиная с Гомера, а затем Гёте, Шекспира и др.) в беспомощности, невнимательности, даже недомыслии. Глубокая ошибка. Великими противоречиями изобилуют даже математические и физико-математические творения и притом величайшие, напр. «Трактат об электричестве и магнетизме» Кларка Максвелла или работы Кельвина», снова объединив в системе доказательств научную и художественную деятельность как творческие процессы.
Кроме уникальной научной эрудиции еще общая наблюдательность и обдумывание наблюдений – характерная черта, которая и позволяет ему высказываться по самым разным вопросам. Это интересно тем, что проливает свет на метод исследования и его описание, например: «Дорогой Васюшка, … хочу тебе сообщить об одном важном наблюдении, по-видимо[му] подтверждающем и углубляющем теорию цветного зрения Юнга–Гельмгольца. Это наблюдение фосфенов, т. е. световых пятен, видимых при закрытых глазах. Я лежал в постели, утром, когда проснулся. Вот зарисовки того что я видел в нескольких последовательных стадиях…». И далее приводит зарисовки и описывает изображения, а описав их, делает выводы: «… Процесс изменения этих фосфенов сводится к втягиванию внутрь периферии и возникновению на освобожденном месте периферии новых цветовых образов. Втягиваемый же цвет как бы заливает, и притом постепенно, внутреннюю область. Т.о. наряду с тремя основными нервными окончаниями по Юнгу–Гельмгольцу, несомненно, для меня, существуют еще окончания, чувствительные к инфракрасным и к ультрафиолетовым лучам. Это очень важное наблюдение, тем более, что видимость у.-фиол. лучей именно человеческим глазом (вместе с глазом дафний), в отличие от глаз всех прочих существ, хорошо доказана. … Форма наблюдаемого фосфена очевидно соответствует входу зрительного нерва и слепому пятну, которые, как два центра, определяют собою лемнискатные контуры каждой окраски». Вот такое письмо взрослеющему сыну с надеждой на его понимание, а возможно, и использование им в работе.
А в другом письме уже новое наблюдение: «1935.III.7. Сообщаю тебе сделанное мною наблюдение о различии натрия и калия, указания на которое как будто не приходилось встречать в литературе. … Едкое кали осаждает только гидр. окиси меди, который … нацело переходит в черную окись меди, тогда как раствор остается бесцветным. Едкий же натр дает частично комплекс, растворимый в избытке щелочи и представляющий темно-синюю жидкость характерного для комплексных ионов Cu (меди) цвета, … и притом не переходящего в окись, т. е. не чернеющего». А в заключение дает простой и мудрый совет: «В жизни часто бывает так, что трудности разрешаются сами собою, только не надо дергаться и проявлять нетерпения».
Тем временем в начале марта 1935 года его научные интересы смещаются к химии: «…и последнее время по преимуществу … органической. Разбираюсь в разных видах углеводов и их производных, далее пойдут белки; готовлю реактивы, налаживаю методику анализа. Попутно идет другая работа, подготовка к электрохимическим процессам, т.к. я хочу испробовать электрохимический путь комплексного использования водорослей. На ходу уясняются разные детали, неизвестные по книгам, но важные в том или другом отношении».
Таким образом, шел нормальный научный процесс, когда новое и неизвестное открывается как результат исследований и обдумывания полученных данных. Но его интересы не замыкались в рамках химии: «1935.III.13–14. … В частности, в связи с работой около йода, подобрал некоторый материал по распространению йода в природе. … М.б. у Вернадского подобный материал и есть где-нибудь, но вероятно без конкретных подробностей. Веду лекции по математике, гл. образом в отношении строгого построения и взаимной связи понятий и по их конкретному естественнонаучному содержанию. Последние лекции, впрочем, посвятил т.н. методу областей при изучении кривых и функций. Идею этого метода я вычитал давно … потом развивал ее сам. Этот замечательный метод … весьма полезен практически. Обычные приемы изучения кривых, простые по идее, в практическом применении в большинстве случаев оказываются весьма затруднительными или даже неприложимыми, особенно когда функция дана в неявном виде. Этот же метод позволяет обследовать неявную функцию, как алгебраическую, так во многих случаях и трансцендентную, весьма просто и даже наглядно». Дальше, до конца письма описывает этот метод, проведя маленькое математическое исследование.
Это было для Василия, а для Кирилла уже другие наблюдения: «Занимаюсь электролитической переработкой водорослей. Удается хорошо выделять весь йод непосредственно из водорослевой массы, без какой либо предварительной химической обработки. При дальнейшем продолжении процесса, когда разлагаются хлориды, происходит разложение водорослевой массы и выделяется альгиновая кислота и альгинаты щелочных металлов. Клетчатка и маннит, а также белковое вещество, остаются в ванне. Дальнейшее разделение при помощи фильтрации … и сублимация упаренного маннита. Процесс этот – новый, предложен мною и, кажется пойдет удачно». И, снова отмечает: «Вообще, похоже все это на «Таинственный остров» Жюля Верна, где тоже всё придумывали и осуществляли из ничего». Отдавая дань научно-фантастической литературе того времени и подтверждая, что и в жизни могут возникать подобные обстоятельства, когда требуются знания, трудолюбие, упорство и вера.
Каждое его письмо – это либо эссе по какому-либо вопросу, либо исследование, либо наблюдение: здесь и опыт «над превращениями крахмала», и рассказ «о рыбоводстве» Белого моря, и логика обоснования предположения об образовании гнейсов при относительно низких температурах. О последнем он пишет так: «…отличие генезиса его от генезиса гнейсов надо искать в различии давлений, а не в чем-либо ином: на гнейс действовало одностороннее давление, а на гранит – всестороннее». И предлагает метод: «Для определения йода мы теперь уже почти подработали потенциометрический способ, который дает хорошие результаты, а также электротитрование с азотнокислым серебром».
Познавательно ветвление его интересов, например, при исследовании йода он интересуется: «Меня очень занимает последнее время аламбаний (экайод), элемент, предсказанный Кендаллем и в 1931 г. открытый в монаците. Элемент этот – ближайший аналог йода…». Это элемент, который сейчас называется «астат», в крайне малом количестве имеется в природе и его роль в ней до сих пор не прояснена.
Оторванный физически от семьи и детей, он не потерял с ними духовную связь, хорошо представляя и жизнь, которая их окружает, потому писал в том же письме детям: «Радость жизни дают не большие дела, т. е. кажущиеся большими большим, а удачно найденные пустяки – бумажка часто радует более драгоценностей, и неудобство, но поэтичное, приятнее больших удобств». Он понимал, как важно для детей брать пример с взрослых и неординарных людей, когда писал: «Мне жаль, и было и есть, что дети мало восприняли крупных людей, с которыми я был связан, и [не] научились от них тому, что обогатило бы лучше книг. Вот почему я писал, чтобы Вася и Кира постарались научиться чему-нибудь от Вл. Ив. (Вернадского авт.), т.к. такой опыт в жизни едва ли повторится. Но нужно уметь брать от людей то, что в них есть и что они могут дать, и уметь не требовать от них того, чего в них нет и чего дать они не могут». Здесь видно его понимание необходимости влияния выдающихся людей на подрастающее поколение, как для воспитания, так и для связи времен.
К этому времени (март 1935 года) почти все, что связано с его прошлой жизнью, порвалось, и потому в письме возникают горькие слова: «Только вы, мои дорогие, представляетесь мне близкими отсюда, а все остальное – беcконечно далеким и, признаться, совсем умершим, каким-то почти ненужным. В частности, о ВЭИ я вспоминаю так смутно, словно видел его во сне, и притом вовсе не весело. Замечательно, что даже фамилий большинства сотрудников, ловлю себя на этом, никак не могу припомнить, а о многих и просто не помню, что они существовали». Все прошлое из жизни постепенно уходило на второй план и исчезало из мыслей и писем.
Интересно его высказывание, которое связывает такие, казалось, далекие вещи как музыка и научные исследования, в письме от 22 апреля 1935 он пишет: «Дорогой Мик … из всех даров … самый радостный, самый утешительный – музыка. А, кроме того, овладеть музыкой весьма необходимо для физики и математики: с музыкой к этим наукам будешь подходить совсем иначе, чем без нее, и сможешь сделать много интересного и полезного, не только в акустике, но и во всех других областях, т.к. всюду – волны, и подчиняются они одним и тем же общим законам; даже материя слагается, по современным воззрениям, волнами. Но для действительного понимания волновых явлений надо не только знать законы отвлеченно, но и привыкнуть к самим явлениям. А из волновых явлений звуковые – наиболее доступны прямому усвоению, прямому наблюдению. Надо их чувствовать и уметь производить – и тогда понимание дается легко и будет жизненно».
На Соловках в лагере образовалась очень большая библиотека, сформировавшаяся за счет поступлений с прибывавшими в лагерь заключенными деятелями науки и культуры. Их библиотеки имели книги на всех основных европейских языках, что позволяло Флоренскому читать произведения европейских писателей и осмысливать прочитанное. Так, в частности, читая в оригинале Стендаля, он высказал несколько интересных суждений о выдающихся людях, которые можно приложить и к нему самому: «1935.IV.27–28 … Редко о ком Стендаль говорит без едкости и шельмования, даже о самых крупных и первоклассных деятелях своего времени. Трудно судить, насколько он прав или неправ в своих суждениях, точнее вечных осуждениях, нравственного порядка. Но осуждения крупнейших ученых, мыслителей и писателей, как тупиц, бездарностей, болтунов и т.п. явно несправедливо и не соответствует тому, что доказано их делами. Впрочем, современник никогда, кажется, не оценивает современника справедливо: мелочи жизни, случайности впечатлений, наконец личные столкновения и интересы затуманивают пред ним то главное и наиболее достойное учета, что становится видно через десятилетия».
Тогда же он предупреждает о форме и содержании своих писем: «… Письма мои выходят очень отрывочны, т.к. я пишу их урывками. Но отчасти это преднамеренно, чтобы вы чувствовали, как я занят всегда мыслию о вас». И в следующем письме Кириллу расшифровывает: «Ведь все, что я приобрел за свою жизнь, приобретал для вас, чтобы вы сделали следующие шаги, шаги по уже проведенной дороге там, где удалось ее проложить». В его словах показана основная роль поколений – передавать своим потомкам накопленные знания и жизненный опыт, расчищая им путь к новым достижениям.
Наблюдательность, понимание природы физических законов и методов исследования приводят его к интересным наблюдениям и предложениям; Василию он пишет: «1935.V.16. … я давно обратил внимание, что примус чрезвычайно действует на голову и на нервную систему, причем степень действия не соответствует производимому примусом шуму, не очень значительному. Недавно я сообразил, в чем дело: примус, очевидно, генерирует сильные ультразвуковые колебания и они, хотя и неслышны, однако оказывают значительное физиологическое действие. Было бы интересно испытать примус на приборах, с помощью которых анализируются колебания весьма частые. Можно было бы напр. записать фонографом неслышимые звуки и затем пустить фонограф медленно, тогда звуки стало бы слышно. Уже давно я думал о применении этого способа к изучению ультразвуков, испускаемых бабочками и др. насекомыми». Сейчас этот способ широко применяется при анализе быстропротекающих процессов.
Лагерная жизнь не способствовала ни хорошему настроению, ни научным исследованиям широкого масштаба, и единственным выходом из этой ситуации было: «занять себя работой, по возможности ни о чем не думать и не жалеть» и размышлять по возможности: «как и прежде, о пространстве в связи с вопросами физики и неевклидовой геометрии; но, к сожалению, тут нет никаких книг и потому размышления слишком затруднительны». Еще раз подтверждая, что при любых научных исследованиях необходимо опираться на уже изученный другими материал, чтобы заново не открывать уже открытое, уподобляясь героям «таинственного острова» Жуль Верна.
В письме от 21 июня 1935 года он пишет жене уже приводимые в этой книге слова о В.И Вернадском в контексте работы сына Кирилла в Радиевом институте: «По правде сказать, В.И. единственный человек, с которым я мог бы разговаривать о натурфилософских вопросах не снисходительно, все же прочие не охватывают мира в целом и знают только частности». А в письме Василию о книге Вернадского о радиогеологии пишет практически рецензию на неё: «… Прочитал ее пока начерно, … не могу сказать, чтобы узнал из этой книги много нового для себя. Но в целом она произвела на меня очень приятное впечатление, т.к. отдельные моменты радиогеологии давно было необходимо изложить в целостной картине. Кроме того, мне весьма близко (и давно мною высказываемое) отрицательное отношение к спекуляции геологов на канто-лапласовской гипотезе и многочисленных ее вариантах более нового времени, … и решительно противоречащих данным физики и астрономии. Конкретно-эмпирическое направление Вернадского мне так близко, что я лишен возможности достаточно оценить его и мне все кажется, что не сказано ничего нового, ибо все это мною многократно передумано в течение десятков лет».
Вот такое своеобразное единомыслие двух крупных философов науки, но все же он нашел новое для себя: «… это сведения о тухолите и его группе. … Ведь эта группа минералов еще раз подтверждает не магматическое происхождение гранитов – позиция, на которой я давно стою и в которой уверен. Не буду касаться ряда общих оснований, а приведу одно, более конкретное» и далее приводит логическое обоснование с приведением конкретных цифр и, заканчивая его, пишет: «Картина ясна. Она поразительно ясна тектонически, напр. на Мариупольском месторождении графита, где гнейсы представляют картину иловых отложений, перековерканных давлением, как тесто, измятых и спутанных. Группа тухолита подтверждает, что и граниты содержали органические остатки, далее метаморфизировавшиеся, причем весьма правдоподобно участие радиоактивных явлений. Что же до содержания в тухолитах редких земель и проч., то это опять ясное указание на специфичность организмов, ассимилировавших [в] себе дисперсные элементы, ибо нахождение в одном месте сконцентрированного элемента, вообще дисперсного и малораспространенного, согласно 2-му принципу термодинамики (в расширенной трактовке) есть всегда прямое указание на эктопический процесс, преодолевший энтропию материи, т. е. на деятельность жизни». Вот такое письмо, а на самом деле небольшая научная статья, в которой ясно виден его стиль аргументации и доказательства.
Но при всех своих научных интересах он никогда не забывал детей, давая свои советы, писал дочери: «1935.VII.20–21. Дорогой Олень, по обычаю пишу тебе ночью…» и дальше большими буквами написал о том, что надо: «НЕ ГНАТЬСЯ ЗА ВСЕМ ЗАРАЗ и НЕ ЖАДНИЧАТЬ, и наконец, ВООРУЖИТЬСЯ ТЕРПЕНИЕМ и ЖДАТЬ, ЧТОБЫ ЗНАНИЯ РОСЛИ САМИ, ОРГАНИЧЕСКИ, а не хватались судорожно». А дальше перечислив, что ей необходимо знать, особо указал на: «стиль, умение выражать свои мысли точно, ясно, изящно и культура СЛОВА – ощущение его ценности, ответственности, органичности и существенности. … Филологию определяли как “искусство медленного чтения”. Твоя задача – научиться читать медленно, – чем медленнее, тем лучше».
И если связь с семьей у него не прерывалась, связь с прошлой жизнью, работой становилась все тоньше и тоньше, вот и появляются строчки: «1935 г.VII.23 … Просматриваю иногда журналы, попадается кое-где упоминание о ВЭИ, и звучит оно так бледно и далеко, словно никакого ВЭИ нет и не было». Это были последние строчки об институте, в котором он проработал почти 10 лет.
4.3. Мировая энергия
В начале августа 1935 года в строках письма Василию появляются интересные строки: «VIII.5.1935 … Последнее время подчитываю новую литературу по атомному ядру и соприкосновенным вопросам. Требуется, чтобы я прочел несколько популярных лекций около этих тем, но почти уверен в полной неподготовленности слушателей, так что ничего не поймут, не смотря ни на какую популяризацию». Эти строки интересны по двум причинам: во-первых, кто в лагере мог интересоваться проблемами атомного ядра и требовать провести лекции, а, во-вторых, П.А. Флоренский был одним из немногих ученых того времени, действительно понимавшие эти вопросы, о чем свидетельствует его статья «Запасы мировой энергии» [37]. Эту статью он опубликовал в журнале «Электрификация» в январском номере за 1925 год. В ней сначала он дает определение видов энергии: кинетической и потенциальной, производимой ими работы и закона сохранения энергии. Далее переходит к рассмотрению её использования на различных примерах, попутно давая определения физическим единицам: калориям, килограмм-метрам, киловаттам. Установив, таким образом, основные понятия физики, переходит к рассмотрению: «… практически наиболее интересующей нас – к энергии находящейся в распоряжении техники». И сразу делает вывод, что: «Главный и практически единственный источник энергии, питающий технику, есть Солнце». Подробно рассмотрев на примерах баланс мощности, испускаемой им и получаемой Землей и преобразование этой энергии в природе, дает оценку энергии залежей горючих ископаемых в Земле. Оценив все это, предупреждает: «… как ни кажутся нам велики запасы энергии, накопленной во всех горючих ископаемых вместе, они, однако, ничтожны не только в сравнении с полной мощностью источаемой Солнцем, но даже и с долей её, непосредственно питающего Землю». Оценив, таким образом, энергию запасов угля и мощности рек, дополнительно к ним перечисляет энергию ветра, морских волн, небольших водоемов, атмосферное электричество – но и они: «… как бы ни были величественны явления природы, производимые в отдельных случаях этими видами энергии, при общем подсчете энергетического хозяйства они почти не могут идти в счет по своей малости с мощностями энергии уже перечисленными». В энергетическом балансе он рассматривает даже энергию, получаемую от Луны – приливы и отливы, но и: «… этот естественный ход техники пока, по-видимому, далек от широкого практического применения и нуждается в обширных установках». И далее переходит к главному; рассмотрению других видов энергии: «может быть обещающих в будущем многое» это: «… теплота Земли (если таковая в самом деле имеется, о чем можно ставить вопрос) и внутренняя энергия атомов, выделяющаяся при распадении атомов на электроны. Эта энергия должна быть чрезвычайно велика». Упомянув в третий части своей статьи энергию атома, в четвертой части он раскрывает объёмы его энергии: «… всякое вещество, все равно какое, пусть самое бездеятельные, по обычному химическому суждению, содержит в своих атомах запасы потенциальной энергии, перед которыми исчезают все предыдущие подсчеты». Проведя новые подсчеты, делает вывод: «… один грамм радия при полном превращении энергии дает столько же энергии, сколько 250 килограммов угля при горении». И далее пишет: «С атомами очень грузными разложение идет особенно легко, и они разваливаются сами собою, таков именно источник энергии разных видов, непрестанно поставляемой радием, ураном и др.». В своих рассуждениях он подошел не только к возможности использования энергии атома, но и к пониманию опасности его использования, о чем пишет: «Медленность разложения материи есть, конечно, условие длительности существования мира. … Нужны особые деятели, чтобы вызвать или ускорить разложение материи. Вероятно, на свою же пользу мы пока почти не владеем такими деятелями: иначе судьба Земли была бы весьма шаткой». Развивая свою мысль, пишет: «Каждый атом в этом смысле, есть нечто взрывчатое. Но разлагаясь, он должен внезапно выделить часть своей энергии, и мощность этого выделения в миллион раз превзойдет мощность взрыва наисильнейшего из химически-взрывчатых веществ». Вот так он писал ровно за 20 лет до первого атомного взрыва, сделавшего судьбу человечества «весьма шаткой». Но на этом его статья об энергии не ограничивалась, в ней есть еще одно знаменательное упоминание: «Между тем самое пространство, помимо материи, несет свою энергию, так называемую “нулевую энергию светового эфира” … Как именно организована эта энергия – пока остается не выясненным … плотность ее распределения … чудовищно большая. … Эта энергия, однако, ускользает не только от эксплуатации, но и от прямого наблюдения».

