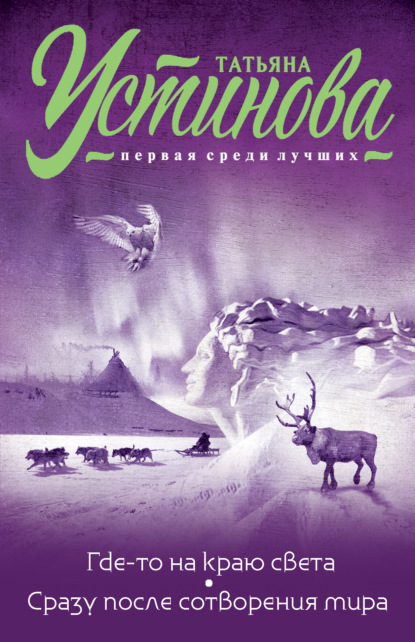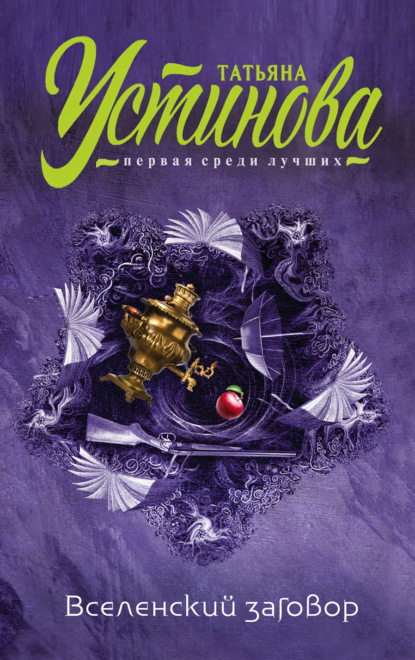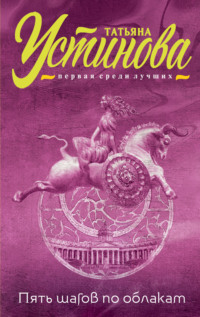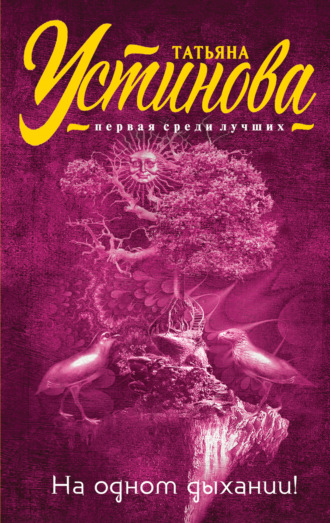
Полная версия
На одном дыхании!
– Постойте, – перебил Волошин, – значит, вам звонила Глафира. Попросила забрать собаку. Вы приехали и взяли.
Елена Степанова кивала.
– Когда вы собаку забирали, Разлогов был дома?
– Нет. Никого не было. Димка был один.
– Так. Был Димка. Дальше что?
– Да ничего! Я на него ошейник надела, намордник взяла, так, на всякий случай. По телику все показывают, как собаки на людей бросаются, а люди-то на собак чаще… Ну мы и уехали с ним ко мне на дачу. А потом, дня через два, что ли, в «Новостях» и говорят, что Владимир Разлогов… Вот я теперь звоню, звоню, а телефон не работает. – Она опять шмыгнула носом, очень горестно. – И Димка тоскует. Вот я и решила на работу приехать! Ну к вам то есть.
– Откуда вы знаете, где мы работаем?
Она взглянула испуганно, и Волошин изменил тон.
– Вы у нас тут раньше бывали? – спросил ласково.
– Мы первый раз с Володей здесь встречались! – Она вдруг заспешила, как будто в чем-то оправдывалась. – Меня Марина Леденева хорошо знает, директор книжного магазина «Москва». Ну на Тверской!
Волошин кивнул. Этот магазин знали все.
– Я к ее Цезарю приезжала. Цезарь – собака, – пояснила она и улыбнулась доброй улыбкой. – Хорошая собака, умная. И Димка умный очень. Шалопай, конечно, как все мальчишки, но умный! Вот ему раз сказал, и он…
– Вас рекомендовала Марина Леденева, Разлогов вас здесь принял, вы стали заниматься его собакой и время от времени брали ее на передержку, когда Разлогов уезжал. Так?
– Да-да!
– В последний раз вам позвонила его жена и попросила увезти собаку?
– Да, все в точности так.
– Вы приехали, на даче никого не было, вы забрали собаку и уехали?
– Да.
– Теперь вы хотите ее вернуть, а телефон Глафиры не отвечает?
– Ну да, – не понимая, к чему такой допрос, подтвердила Лена, и щеки у нее покраснели.
– А ее телефон… как не отвечает? – вдруг спросила Варя, и Волошин взглянул на нее с изумлением. – Трубку никто не берет?
– Выключен он. Вне зоны действия сети, – Лена пожала плечами. – Ну я в первые дни думала, ни до чего человеку… Ну уж не до собаки точно! И потом… Не может же она телефон навсегда выключить! А он «вне зоны» да «вне зоны»…
– Лена, какого числа вы собаку забирали, помните? – Это опять Варя спросила. – Только точно!
– Да чего там не помнишь! Третьего, совершенно точно.
Варя посмотрела Волошину в глаза.
Третьего числа Разлогов умер. Или его убили.
– Вы собаку днем забирали?
– Ну ближе к вечеру. Часа четыре было. Я специально так поехала, чтоб до пробок успеть…
И все замолчали. Волошин думал.
Глафира велела забрать собаку. Если бы пса не забрали, он никогда и никого не подпустил бы к Разлогову. Тем не менее Димку забрали, и в тот же день Разлогова не стало.
Выходит, Глафира знала, что Разлогова… убьют? И убрала собаку, чтобы сделать это было легче? Или она сама заказала убийство и хорошо к нему подготовилась?
– Глафира часто вам звонила?
– Говорю же, редко! Володя чаще звонил. Так что мне теперь с собакой-то?.. Может, вы знаете, где Глафира и как-то с ней свяжетесь?
– Дайте мне ее телефон, – вдруг опять встряла Варя. – Ну номер, который у вас есть! Я попробую позвонить.
– Чего там пробовать, я каждый час пробую! – вдруг возмутилась Лена. – Я думала, у вас, может, есть запасной или домашний…
Тем не менее мобильный достала, понажимала какие-то кнопки.
– Ну вот! Записывайте!
Пока Варя переписывала цифры на желтую бумажку, Волошин принял решение.
Он вернулся в кабинет, оставив дверь нараспашку, вытащил телефон и нажал кнопку вызова.
– Глафира Сергеевна, – громко сказал он, когда ответили, – кинолог очень просит вас забрать собаку, которую вы ей отдали.
– Вы что? – помолчав, спросила в трубке Глафира. – С ума сошли?!
– Приезжайте, – велел Волошин и положил трубку. И потер лицо обеими руками.
…Если Разлогова на самом деле убили, значит, это сделала его жена. Больше никому не удалось бы так легко и просто избавиться от собаки!
Глафира подъехала к шикарному, новенькому, с иголочки зданию, в котором, помимо всего прочего, помещалась еще и редакция журнала «День сегодняшний», с таким расчетом, чтобы точно не застать Прохорова на работе.
В этот самый день и час он всегда присутствовал на каком-то смутном совещании то ли в Минпечати, то ли еще где-то и больше в офис никогда не возвращался. Очень удобно.
Глафира была уверена, что такие совещания специально затем и собирают, чтобы поменьше торчать на скучном рабочем месте. Так сказать, создают законный повод для отдыха.
В подземный гараж она не поехала, приткнула тяжеленную разлоговскую машину кое-как, уповая только на то, что задеть ее никто не посмеет – исключительно из чувства самосохранения.
В короткой щегольской курточке она сильно мерзла, даже в машине мерзла. Да еще и снег вдруг пошел! Почему-то московские автомобилисты никогда не бывают готовы к «снегопадам и метелям», несмотря на то что зима наступает исправно, из года в год и из века в век, и еще ни разу на смену лету и осени не пришла весна, а вот поди ж ты!.. Дорожные службы «не справляются», техника «не успевает», водители в обмороке – оказывается, нужно было менять резину, снимать летнюю, ставить зимнюю!
Глафира была уверена, что к вечеру город встанет намертво, замкнутся все многочисленные «кольца» – и Садовое, и «третье», и «первое», и многострадальный МКАД! Хорошо бы сейчас не торчать возле щегольского офисного здания в центре Москвы, не прикидывать, как бы получше провести предстоящий разговор, не ежиться от холода в щегольской короткой курточке, а затопить камин, наварить картошки, чтобы пахло по всему дому сытным картофельным духом, обнять за шею мастифа Димку и рассказывать ему, рассказывать, и совать руки под теплый бок, и ронять слезы на шелковые широкие уши, и смотреть в карие, сочувствующие, все понимающие глаза, и жаловаться на то, что жизнь изменилась так непоправимо, и вспоминать, как все было раньше, когда она, Глафира, была еще нормальным человеком, свободным от груза, который давил теперь на ее плечи. А раньше – до груза! – она была уверена, что живется ей ничего.
«Это потом ты поймешь, что вместо, скажем, мешка асбеста теперь несешь железобетон, но это потом, потом».
Димка Горин, написавший эти стихи, должно быть, понимал жизнь лучше Глафиры.
Должно быть, мастиф Димка тоже понимал, потому что смотрел внимательно и серьезно, слушал, собирал складки на лбу. А может, совсем ничего не понимал, а слушал и собирал складки просто потому, что Глафира не давала ему ни малейшего шанса уклониться от ее словоизлияний и… как бы это сказать помягче… «чувствоизлияний»! Она изливала на него чувства, а он морщился, собирал складки, кряхтел, терпел. Разлогов ни за что бы не стал терпеть! Он вообще относился к Глафириным «чувствоизлияниям» сдержанно – всегда, с самого начала, и она долго не могла взять в толк – почему. Когда она кидалась ему на шею, он иногда даже рук из карманов не вынимал. Просто стоял и ждал, когда ей надоест кидаться. Ей долго не надоедало, правду сказать. Несколько лет. А потом она поняла, в чем дело, – просто он никогда ее не любил, и ничего тут не поделаешь. Из каких-то своих соображений он решил с ней жить и даже правила соблюдал – вот, к примеру, никогда не таскал своих девок на заграничные курорты, где могли быть знакомые. Он соблюдал правила, был по-своему честен, иногда нежен и всегда жил своей жизнью.
Глафира из-за этого сильно переживала, и долго – те самые несколько лет, что она кидалась ему на шею. А потом ей встретился Прохоров, и ему как-то ловко и моментально удалось убедить ее в том, что он и есть самая большая любовь ее жизни. И она…дала себя убедить. Правда, отчасти это напоминало игру в «ты первый начал» все с тем же Разлоговым. У тебя белокурые красотки, хорошо же!.. Значит, у меня редактор модного журнала. И вовсе мы не пытаемся ничего друг другу доказать, мы просто так живем – свободно и современно! У нас общий дом, общие знакомые, общая собака Димка, а личная жизнь у каждого своя.
Димка Горин, в честь которого мастиф и был назван, фыркал, крутил башкой и громогласно орал:
– Идиоты! Идиот и идиотка! Что это, мать вашу, за сериал «Санта-Барбара»?! – Брал Разлогова за свитер и встряхивал. Разлогов матерился и отбивался. – Нет, ты скажи мне, какого х… сериал-то играть?! Ну у тебя бабы – ладно, у всех бабы! А если она себе кого найдет, чего ты делать-то будешь, а?! На новой женишься?! Так я тебе заранее говорю – там, на кафедре, приличных больше не осталось, одни неприличные!
О Глафирином романе с Прохоровым знали все, но предполагалось, что не знает никто. Хотя Димка Горин, может, вправду ни о чем не догадывался. Как всякий гений, он смотрел немножко выше и дальше, чем все остальные «не гении», а того, что под носом, не видел вовсе.
Про то, что Глафиру никак нельзя «упустить», он толковал Разлогову по пьянке, а она подслушивала. Про то, что Разлогов достоин «самой лучшей бабы», особенно после «всего, что было», он толковал Глафире на свежую голову, и Глафира не знала, подслушивает Разлогов или нет. Вряд ли. Ему никогда не было дела до чьих-то чужих… переживаний. Искренне не было. «Я извлекаю из прошлого уроки и двигаюсь дальше, без всякого груза на плечах, но вооруженный новыми знаниями. Только вперед».
Вопрос о том, что там «такого» было в прошлом и почему «после этого» Разлогов достоин самого лучшего, так и оставался без ответа, хотя Глафира несколько раз осторожно пыталась выяснить, в чем дело. Димка Горин напускал на себя суровый вид, не без загадочности, и отвечал в том смысле, что, мол, что было, то прошло, а на ошибках учатся. То ли на самом деле не хотел говорить, то ли не знал ничего и все выдумывал, это на него похоже!..
– Я хочу домой, – громко сказала Глафира в темноте разлоговской машины. – Я хочу домой прямо сейчас. Там меня ждет моя собака.
Ах как Волошин смотрел на нее, когда на стоянке у «Эксимера» Глафира кинулась к мастифу, которого Лена Степанова держала на поводке! Поначалу, в угаре встречи с собакой, Глафира и внимания на Волошина не обратила, а потом ей вдруг стало неудобно, как будто кто-то горячим сверлом вгрызался в ее висок. Димка жарко дышал ей в лицо, и пытался лизнуть, и ухмылялся счастливо чудовищной акульей пастью, и заглядывал в глаза, и Глафира вдруг заревела, и ей показалось, что мастиф тоже чуть не плачет, и тут она почувствовала сверло, разрывающее ей висок. И уже не могла от сверла отделаться, оно вгрызалось все глубже, буравило насквозь. Димка все совался к ней, вскидывал на плечи пудовые лапы, гибкий драконий хвост молотил так, что по асфальту, кажется, расползались трещины, и подкидывал башкой ее руку так, что Глафира чуть не валилась на спину, и толкался, и лизал, и заглядывал в глаза, но сверло не отставало. Глафира оглянулась, разгоряченная, сияющая, позабывшая обо всех своих горестях и страхах, и, как будто на нож, наткнулась на взгляд Волошина.
Он смотрел исподлобья, брезгливо, не отрываясь, – даже не как на врага, а как на нечто мерзкое, гадкое. Так смотрят на таракана, прикидывая, раздавить его каблуком прямо сейчас или пока воздержаться, потому что раздавленный таракан отвратительно, тошнотворно хрустит! Глафира – таракан! – вдруг так растерялась, что от растерянности улыбнулась глупой, искательной улыбкой. Волошин моментально отвернулся. Щеки у него были красны лихорадочным нездоровым румянцем, пальцы сжаты в кулак.
Он убил бы меня, если бы мог, подумала Глафира. А Разлогова?.. Разлогова он убил бы, если бы мог?
Тогда, возле «Эксимера», она совершила ошибку. Может, потому, что Димка нашелся, а может, потому, что очень устала от неопределенности, подозрений и вранья.
– Марк, – сказала она Волошину дурацким голосом провинившейся девочки, – за что вы меня так ненавидите? Что такого я вам сделала?
Кинолог Лена Степанова от изумления разинула рот – в прямом и переносном смысле слова. Волошин разжал кулак и посмотрел на свои пальцы.
– Мне нет до вас никакого дела, – отчеканил он, порассматривав пальцы. – С чего вы взяли?..
И, не дожидаясь ответа, ушел в сторону крыльца, на котором курил, должно быть, весь штат центрального офиса…
– Мне надо подумать, – вновь вслух объявила Глафира. – Мне надо подумать о Волошине тоже. Но сейчас мне надо подумать, как мое кольцо попало на фотографию Олеси Светозаровой.
При имени Олеси, произнесенном вслух, Глафира передернула плечами. Глупо было ревновать прошлого Разлогова к его прошлым девицам, но Глафира ревновала. Даже когда поняла, что он ее не любит. И она его тоже не любит, еще чего!.. Она любит Прохорова. Да?
– Да-да, – сердито ответила Глафира самой себе и полезла из машины. Эта самая машина была так велика и высока, что Глафира все приставала к Разлогову, чтобы он приделал к ней откидную лесенку. А что тут такого?.. Чтобы лезть было удобней!
Кое-как вывалившись из водительской двери – лесенку-то Разлогов не приделал! – Глафира потянула за собой сумку и шарф. Как холодно, ужас! Даже зубы мерзнут!
План был простой – зайти в редакцию, как бы в поисках Прохорова, которого, ясное дело, нет и не будет. В процессе поисков отсутствующего Прохорова выяснить, как выглядит репортер Столетов и на месте ли он. Если на месте, спуститься вниз, подловить его на выходе из офиса. И хорошенько обо всем расспросить. Вот в этом самом «хорошенько» и была главная загвоздка. Хорошенько – это значит точно зная, о чем спрашивать. Глафира не знала решительно.
Шарф, которым она обмоталась, как пленный французский драгун времен войны двенадцатого года, кололся и щекотал уши. Этот шарф связала толстая одышливая бабка, которая сидела на табуреточке при входе в деревянную избушку. Избушка располагалась неподалеку от Иркутска, на территории этнографического музея под названием «Тальцы», и именовалась «Дом ткача». Бабка сидела на табуреточке, смотрела за порядком из-под очков и орудовала спицами. Перед ней на столике были разложены носки, варежки, жилет тошнотворно-голубого цвета и вот этот самый шарф, нынешний Глафирин. Здоровенный Разлогов во всех без исключения «Домах ткачей» первым делом стукался лбом о притолоку. Он шагнул следом за Глафирой, стукнулся, выругался, бабка сурово взглянула из-под очков. Спицы продолжали мелькать. Ткацкий станок с натянутой основой и деревянной педалью, а заодно и веретено с прялкой Глафиру не очень интересовали. Зато Разлогову всегда страшно нравились всякие механизмы. Держась за лоб, он осмотрел станок, потом присел и полез куда-то под педаль.
– Ничего не трогайте тама! – прикрикнула бабка и на секунду перестала вязать. – Потому вещь музейная, редкая!..
– А это все продается? – чтобы отвлечь бабку от Разлогова, спросила Глафира и потрогала варежки.
– Продается, – буркнула бабка, и спицы опять замелькали. – Тока не береть нихто.
– Почему не берет? – удивилась Глафира.
Варежки были сказочные. Таких в Москве днем с огнем не сыскать, ей-богу!
Бабка глянула поверх очков, вздохнула так, что табуреточка под ней скрипнула, опустила на колени вязание и утерла рот концом платка.
– Так ить дорого выходить, – объяснила она неторопливо. – Вещь-от пустяшная, а работы с ей много. Шерсть обстриги, вымой, насуши, пряжу спряди, нитку скрути, да вишь, покрась! А прясть тоже не всякий день дозволено. Ежели б, например, прясть на Гаврилу, говорят, работа не впрок…
– На какого Гаврилу? – Это Разлогов спросил, вылезший к тому времени из-под ткацкого станка.
Глафира на него посмотрела, и бабка на него посмотрела тоже. Он был очень большой, в джинсах и черной майке. Темные очки зацеплены за ворот, и кругом паутина – и на майке, и на джинсах – должно быть, основательно лазал там, под станком. Серые глаза в угольно-черных прямых ресницах смотрели весело и как-то даже… любовно, что ли. Он подошел, одной рукой стал перекладывать вещички на столике, а другой прихватил Глафиру за талию. Всерьез так прихватил.
Бабка вдруг усмехнулась, очень по-женски.
– А Гаврила, милок, это у православных праздник такой! А ты каких будешь? Не православных рази? На татарина, чай, не похож!
– Не похож, – согласился Разлогов, – не похож я на татарина, мать! Это ты в самый корень смотришь!
– А я, милок, завсегда в его смотрю, в корень-от! – И тут бабка засмеялась и прикрыла рот большой ладонью. – Мне б лет пийсят скинуть, так я бы пряслицу в подлавицу, а сама – бух в пух! Особливо ежель с тобой вместе!
И тут Разлогов покраснел. Глафира видела это своими собственными глазами! Тучная бабка хихикала на своей табуреточке, расходилась от души. Вздрагивали и взблескивали ее спицы, воткнутые в вязаный ком. Пылинки танцевали над ткацким станком в прямом и жарком луче солнца, и венцы лиственной избы были темными от времени, а скобленый пол, наоборот, светлый от чистоты, и Разлогов стоял весь красный.
Глафира решила, что его надо спасать.
– А шарф сколько стоит, к примеру?
Бабка перестала колыхаться и призналась сокрушенно:
– Так ить тыщу рублев, доча. Говорю ж тебе, не укупишь! А как же? Нитку сучить, нитку свивать, а спервоначалу крутить!.. Да и рази ж кто знаит, как хороша пряха-то прядет! Недаром говорят…
Не слушая, Глафира взяла шарф – он был тяжелый, крупной вязки, и кололся, – и намотала его на себя.
– И-и, – махнула рукой бабка, – сказано тебе – тыщу рублев! Скидай, скидай, доча! Не укупишь.
От шарфа, несколько раз обернутого вокруг шеи, Глафире было до невозможности жарко, и кололся он ужасно. Надо было как-то намекнуть Разлогову, что шарф следует купить немедленно, и она спросила у бабки:
– А это кто?
– Хде? – не поняла бабка.
– Ну шерсть чья? Шарф из кого?
– Как из кого? – перепугалась бабка. – Из кого ж ему быть? Из овцы ен, из шерсти ейной! А так – из кого ж? Из собак даже самоеды не вяжуть, не то православные! Куды ж ее, шерсть-то собачью? На пряжу не годится!
Разлогов все не догадывался про тысячу рублей, Глафира слегка пнула его в бок и опять спросила:
– А как из пряжи нитка получается?
Старуха всплеснула руками и опять засмеялась весело, с удовольствием. Разлогов тоже посмотрел с удовольствием. Глафира ничего не поняла.
– Ты никак прясть собралась, доча? Ну, сынок! Начнет жинка прясть, берегись тогда! Весь дом опрядет! А пряжа, что ж, доча?.. Пряжа, коль на нитки, сучится с двух початков на один и сматывается прям на мотовило, ну это, сам – есть, рогулька такая с костылем на пятке. А мотушка потом красится и распетливается на воробах, а с них уж мотается на вьюшку. Довольно с тебя или еще ученья хочешь?
И она опять засмеялась и стрельнула в Разлогова глазами, совсем по-молодому.
– Дай тысячу, – тихо и мрачно сказала Глафира, ни с того ни с сего глупо приревновав его к старухе.
Разлогов полез в задний карман джинсов и достал бумажку. Старуха охнула и – по крайней мере, Глафире так показалось! – только в последний момент удержалась, чтоб не перекреститься.
– Можно мне шарфик? – дурацким голосом спросила Глафира и сунула тысячерублевку бабке.
– Забирай, забирай, доча, – засуетилась старуха, принимая купюру. – Оно, ты погляди, как красиво! И шерсть – чистый каракуль! А из собак мы не прядем, не вяжем, мы только из овцы, стало быть…
Провожаемые приговорами и поклонами, они выбрались на жаркую, летнюю, солнечную улицу – Глафира в тяжелом овечьем шарфе, и Разлогов в паутине. Выходя, он, ясное дело, стукнулся лбом о притолоку, обронил очки и долго шарил под крыльцом – искал их.
– Зачем тебе такой шарф? – спросил он, зацепив очки за ворот майки. – А?! В нем сто килограммов живой овечьей шерсти! – Подумал и добавил: – А собачьей вовсе нету! Что мы, самоеды, что ли, из собак шерсть чесать!..
– Это не шарф, а мечта моей жизни, – объявила Глафира. – Ни у кого такого нет!
– Это точно.
– Точно! – согласилась она с вызовом. – И потом… бабке нужно помочь. Ну что она там сидит, работает, а у нее никто ничего не покупает!
– Всех не спасешь, Глаша.
Она отмахнулась.
– Да и не надо спасать! Они и без нас спасутся! Но вот… подбодрить их мы можем.
– Подбодрить? – переспросил Разлогов.
Солнце в Тальцах шпарило вовсю, и разлоговские прямые черные ресницы почти сошлись, глаз было не видно.
– Ну да, – подтвердила Глафира, разматывая шарф, – подбодрить. Это очень просто, и обошлось тебе всего в тысячу рублей. Подержи, – Разлогов взял шарф. – Кстати, ты видел, как она с тобой кокетничала, эта бабка? Ты ей понравился.
– Да ладно!
– Конечно, кокетничала!
– Да брось ты!
Тут она догадалась посмотреть ему в лицо. Оно рдело, как пион. Многоопытный, всем женщинам предпочитавший блондинок, Разлогов краснел, как юнкер во время утренника у «бестужевок». Глафира остановилась и взяла его за розовые юнкерские щеки.
– Разлогов, – сказала она с подозрением, – чего это тебя так разобрало?!
– Меня не разобрало!
– Ты влюбился в бабку с шарфом?!
Тут он захохотал, и на него оглянулась какая-то скучная экскурсия. Все повернули головы как один. Разлогов моментально замотал Глафирину голову в шарф, как мумию, и сказал глухо, из-за шарфа:
– Подбодрить, значит?
Ничего не видя, Глафира кивнула и стала разматывать с лица и головы шарф – жарко было невыносимо! Вынырнув на солнце, она зажмурилась немножко, а когда посмотрела на Разлогова, оказалось, что он очень серьезен.
– Ты что?
Он хотел что-то сказать, даже губы сложил, и она вдруг поняла, что он скажет сейчас что-то очень важное, нужное, имеющее отношение к их жизни и к жизни вообще. Она поняла, и перестала возиться с шарфом, и замерла, рассматривая его.
И он отступил. Он вдруг зашарил по майке, нащупал темные очки и нацепил их, словно в скафандр залез.
– Ты что?!
– Я ничего, – сказал Разлогов фальшиво до невозможности. – А что такое?
Глафира пожала плечами. Ей вдруг стало… неинтересно, как экскурсантам на давешней экскурсии. Как будто что-то самое главное, важное прошло мимо нее, а она не успела остановить, разглядеть его, окликнуть! А может, и сама… спугнула? Она долго потом думала, представляла, что именно она могла… спугнуть? И выдумывала, и фантазировала – все самое невозможное представлялось ей возможным, а самое невероятное вероятным, – несостоявшееся на лужайке перед лиственничным «Домом ткача» в этнографическом заповеднике «Тальцы».
С тех пор Глафира обожала шарф из тяжелой жесткой овечьей шерсти. Стильная до невозможности, безупречная от напедикюренных ступней до кончиков продуманно выгоревших волос, изящная от шпилек до розовых ноготков Даша Волошина, жена Марка, несколько раз вскользь говорила, что шарф прелестен. Просто гордость коллекции Burberry’s, молодцы дизайнеры. Глафира подтверждала, что дизайнеры Burberry’s, безусловно, молодцы, и вспоминала бабку из Тальцов, которая никогда не прядет на Гаврилу!..
Сейчас на ледяном осеннем ветру шарф был просто спасением – чай, из овечьей шерсти вязан, а не из собачьей! Затянув его потуже и сунув в карман руки, Глафира зашагала к щегольскому подъезду, сияющему европейским утешительным светом среди мрачной и промозглой русской осени.
Когда она была уже возле крыльца, из раздвижных дверей выскочил какой-то парень, тоже по глаза замотанный в шарф, и с брезентовой сумкой наперевес. Одной рукой он доставал что-то из кармана куртки, другой втыкал в уши наушники, в общем, Глафиру не видел.
– Ой, извиняюсь!
Глафира, насилу удержавшаяся на ногах, надменно кивнула и шагнула на крыльцо. Дверь навстречу ей приветливо раздвинулась, но войти ей не удалось. Следующий парень, точная копия предыдущего, вылетел на крыльцо, чуть не сбив ее с ног.
– Ой, извиняюсь, девушка!
Глафира кивнула на этот раз менее величественно – все-таки своей брезентовой сумищей он дал ей по ноге довольно ощутимо! Не задержавшись ни на секунду, галантный юноша скатился с крыльца и заорал на всю улицу, перекрывая шум машин:
– Дэ-эн! Дэ-эн! Столетов, стой!
Глафира замерла на крыльце.
Тот, первый, уходил в сторону Садового кольца и никаких воплей не слышал. Второй кенгуриными прыжками поскакал за ним, догнал, они остановились на краю тротуара и стали совещаться.
Глафире следовало быстро принять решение. Собственно, один из них и есть тот, кого она искала и с кем собиралась… поговорить. Вот он, в двух шагах, хватай его и задавай любые вопросы! Глафира медленно пошла в сторону совещавшихся парней.
…Что сказать? Как представиться? Как спросить?.. Да еще неизвестно, что они подумают, если она просто так подойдет к ним на улице! И вообще… как подойти к незнакомым людям… просто так?! Хорошо и правильно воспитанная Глафира никогда ничего подобного не проделывала, даже во времена студенческой юности! По этому поводу Глафира Сергеевна пребывала в некотором смятении, а ноги сами несли ее к парочке молодых орангутанов, продолжавших активно совещаться на краю тротуара. Смятенная Глафира приблизилась к ним почти вплотную и остановилась. Они не обращали на нее никакого внимания.