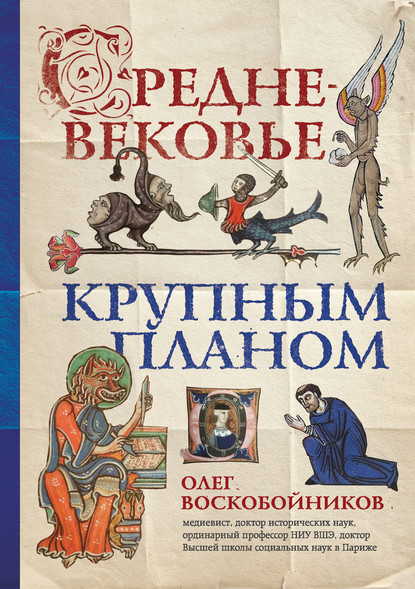Полная версия
Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов
Путешествие до Берлина не было приятным. Переполненные и грязные поезда шли крайне медленно, поскольку в их топках жгли уголь низкого качества. На границе Виолетта поняла, что такое инфляция или, скорее, гиперинфляция. За два фунта ей выдали 200 тысяч марок – «огромные и тяжелые пачки денег», которые она с трудом могла нести. Англичанка заметила трех «типичных, нелепых американцев, которые словно только что вышли из Мюзик-холла». Они обсуждали между собой курс обмена, который назвали большой шуткой: «5 тысяч марок – это же 5 центов». Более благоприятное впечатление на Виолетту произвел торговец рыбой из шотландского порта Абердин, который собирался купить в Германии рыболовное судно и нанять на него немецкую команду. Шотландец объяснил, что у себя на родине не может найти таких хороших рыбаков, как немцы. «Я теперь за Германию, – сказал он. – Да и все мы теперь за Германию»[62].
1 марта в 10.30 вечера Виолетта Бонем Картер прибыла в Берлин после пятнадцати часов пути и сразу же отправилась в британское посольство. Здесь она остановилась по приглашению посла лорда Д’Абернона и его жены Хелен. «Было просто божественно приехать грязной и уставшей в комфортабельное и чистое посольство, – писала Виолетта в своем дневнике. – Дорогой Тайлер открыл мне дверь и сказал, что Хелен уже легла спать после бала, а Эдгар еще бодрствовал. Я так рада была увидеть его в огромной и хорошо обставленной комнате. Бальный зал в посольстве украшен желтой парчой и милыми гобеленами, которые скрывают отвратительную немецкую лепнину»[63]. Британское посольство располагалось рядом с отелем «Адлон» на Вильгельмштрассе. Фасад этого огромного, но ничем непримечательного здания выходил прямо на улицу.
Лорд Д’Абернон стал в октябре 1920 г. первым послом Великобритании в Германии после войны. Высокий и величественный, он выглядел как истинный посол. Работать в Германии было непросто, но лорду Д’Абернону повезло намного больше, чем его коллеге, французскому послу Пьеру де Маржери, который вместе со своими соотечественниками столкнулся с общественным бойкотом после оккупации Рура. Во всем Берлине только ресторан в отеле «Адлон» обслуживал французов и бельгийцев. На входе практически всех заведений города висели таблички с надписью «Французы и бельгийцы нежелательны». По словам Бонем Картер, такое положение вещей очень расстраивало французского посла, который недавно приехал в Берлин и надеялся, что «его обязательно полюбят»[64].
Леди д'Абернон была не только одной из самых известных красавиц своего поколения, но и смелой женщиной: во время войны она работала медсестрой-анестезистом во Франции. Жена британского посла не строила иллюзий насчет их миссии в Берлине: «Чтобы снова установить относительно приятные нормальные отношения, потребуется много сил и доброй воли», – писала она в своем дневнике 29 июля 1920 г. Леди д'Абернон не любила Германию и все немецкое и потому считала, что находится в Берлине из чувства долга, а не ради собственного удовольствия. Англичанка находила в столице Германии мало шарма. Она писала, что в городе «нет узких улочек, перепадов высот, извилистых переулков, неожиданных закоулков, уголков и мест»[65]. Впрочем, ей нравилось смотреть, как зимой в Тиргартене катались на санях, запряженных лошадьми:
«Лошадь всегда увешана маленькими звенящими колокольчиками, а на голове у нее огромный белый плюмаж из конского волоса, похожий на шлем лейб-гвардейца, только намного большего размера. Сани часто красят в красный или ярко-синий цвет, а сидящие в них люди тонут в мехах и выглядят довольно колоритно, словно приехали из Франции XVIII века»[66].
Несмотря на личную неприязнь к Германии, Хелен Д’Абернон оказалась очень проницательным наблюдателем. «Сейчас в Берлине модно демонстрировать свою бедность и подчеркивать жизненные сложности, – писала она после того, как познакомилась с министром иностранных дел Германии и его супругой, – поэтому, чтобы идти в ногу со временем, я оделась в неброское голубоватое платье в пуританском стиле»[67]. Впрочем, первый дипломатический прием в посольстве, который организовала Хелен, нельзя было назвать скромным: леди д'Абернон хотела показать, что Великобритания нисколько не изменилась с довоенных времен. Бальную залу украсили цветами. Гостей обслуживали слуги в ярко-красных ливреях. Двое слуг – Фриц и Ельф, работавшие в посольстве еще до войны, были одеты в треуголки и расшитые золотой нитью камзолы. Они стояли у входа, держа в руках посохи, увенчанные королевским гербом. Извещая о появлении важного гостя, Фриц и Ельф три раза громко ударяли посохами в пол. После этого приема Хелен Д’Абернон писала, что «не обменялась ни с кем и десятком интересных слов, не считая большевика из Украины», политические убеждения которого, по ее словам, «нисколько не мешали ему наслаждаться «старорежимной» вечеринкой»[68].
Хелен не была излишне сентиментальной, в большинстве случаев она оставалась равнодушна к лишениям немецкого народа. Жена британского посла встречалась с Джоан Фрай, которая не произвела на леди д'Абернон большого впечатления: «Мисс Фрай – сама самоотверженность и настоящий энтузиаст. Но ее сострадание распространяется исключительно на немцев. Она избегает разговоров о страданиях и лишениях в Великобритании»[69].
Хелен Д’Абернон имела свое мнение насчет положения дел в Германии. Жена британского посла заявила Виолетте Бонем Картер: «Поверь мне, немцы страдают не так сильно, как утверждают. Здесь нет большой бедности. 95 процентов населения живут в достатке, пять процентов голодают». После посещения самых бедных районов Берлина Виолетта должна была признать, что в оценке леди Д’Абернон есть доля правды. Бонем Картер не заметила ничего, что могло бы сравниться с трущобами Великобритании. Здесь были «широкие улицы, большие дома с окнами такого же размера, как в посольстве»[70].
Виолетта, как и многие другие иностранцы, наблюдавшие жизнь немцев в период инфляции, больше всего переживала за средний класс. В те годы мало кто мог позволить себе обратиться к высококвалифицированным специалистам. Инфляция уничтожила сбережения представителей среднего класса, и многие из них стали нищими. Виолетта знала, что в благоустроенных домах, в которых проживали порядочные семьи, каждый день «происходили ужасные тихие трагедии». Многие врачи, адвокаты и учителя, продав свои последние вещи, принимали яд, чтобы избежать унизительного нищенского существования и голодной смерти[71]. На пике инфляции в ноябре 1923 г. даже Хелен Д’Абернон начали задевать «ужасающие сцены, когда благородные люди прятались за деревьями в Тиргартене и протягивали руки, робко прося подаяния»[72]. Виолетта не могла понять, как при таком обнищании в дорогих магазинах все еще продают меха, драгоценности и цветы. Леди Д’Абернон объяснила, что все это могут купить только спекулянты, которые роскошно живут в лучших отелях столицы. Хелен также отметила, что «женщины этих спекулянтов ходят в меховых шубах с жемчугами и другими драгоценными камнями. Высокие желтые сапоги оттеняют красоту камней, хотя и смотрятся несколько странно»[73].
Коммунист и британский профсоюзный деятель Том Манн быстро заметил спекулянтов, когда весной 1924 года приехал в Берлин на партийную конференцию. Манн писал, что спекулянты «выглядят и ведут себя как типичные буржуа, словно у них тонны наличных денег: плотно обедают, курят толстые сигары». Впрочем, коммуниста больше волновали разногласия между «молодыми бунтарями» и «старыми реакционными профсоюзными деятелями». Он писал жене, что Коммунистическая партия рассчитывает на следующих выборах увеличить количество своих мандатов в Рейхстаге с пятнадцати до пятидесяти. Манну не очень понравилась общая политическая ситуация в Германии: «Здесь такой беспорядок, по крайней мере 15 политических партий или отделений выдвигают своих кандидатов». Гораздо более приятные впечатления англичанин получил, услышав оперу «Нюрнбергские мейстерзингеры». «Иногда мне казалось, – делился впечатлениями Манн, – что старый башмачник излишне многословен, но в целом постановка замечательная… на огромной сцене было 250 человек в богатых одеждах и множество знамен. При этом артисты не толпились. Хор пел грандиозно»[74].
Манн был не единственным иностранцем, который обратил внимание на то, как много для немцев значила музыка. Виолетта Бонем Картер писала: «В такие времена музыка для них – это самый прекрасный и самый мощный способ самовыражения. Невозможно представить себе, чтобы перед началом какой-нибудь политической демонстрации в Англии прозвучал долгий струнный квартет»[75].
Виолетта посетила одно такое политическое мероприятие. Вернувшись в посольство, она обнаружила, что леди Д’Абернон «самоотверженно развлекает тридцать англичанок, которые вышли замуж за немцев». Бонем Картер отметила, что у них был жалкий вид. Не все женщины обрели счастье в браке: так, одна англичанка жила с мужем, который целый год с ней не разговаривал. Настроение гостий улучшилось, когда «полковник Родди спел, аккомпанируя себе на фортепиано, после чего все пили чай»[76]. В тот вечер во время званого ужина Виолетта сидела рядом со вторым президентом Германии фельдмаршалом Паулем фон Гинденбургом. Он не произвел на нее большого впечатления: «Я сидела между Гинденбургом, который оказался низкорослым и малоприятным человеком, и каким-то неприметным итальянцем»[77].
* * *В 1920 г. Стюарта Родди перевели в военную комиссию союзников по контролю над разоружением Германии со штаб-квартирой в отеле «Адлон». Судя по мемуарам полковника, он потратил столько же времени на утешение опечаленных родственников бывшего кайзера, сколько на поиск незаконного оружия.
Родди был похож на британского красавца-поэта Руперта Брука и умел проявлять сочувствие людям. Этот бывший учитель музыки из Инвернесса осторожно лавировал между членами семьи Вильгельма II, выслушивал их горести, давал им советы, оказывал поддержку, обращаясь за помощью к вышестоящим начальникам. Его книга «Патруль мира» напичкана известными фамилиями, как энциклопедия о знаменитостях «Кто есть кто». Кроме родственников бывшего кайзера Родди общался с видными военными и политическими деятелями, членами королевских семей других европейских стран, британскими аристократами. В общем, вездесущий полковник был на «ты» с представителями высшего света.
Летом 1919 г. Родди посетил принцессу Маргариту Прусскую, младшую сестру бывшего кайзера и внучку королевы Виктории. Хотя принцесса и ее муж принц Фридрих Карл Гессен-Кассельский все еще жили недалеко от Франкфурта в огромном замке Фридрихсхоф (Маргарита унаследовала его от матери), в семье царили горе и нищета. Война унесла жизни двух сыновей супружеской пары, земли принцессы и ее мужа были конфискованы[78]. Они ничего не получали от государства, а их собственные сбережения обесценились из-за инфляции. Стюарт Родди описывал, как стоял в зале, а по широкой лестнице к нему медленно спускалась Маргарита: «В длинном строгом черном платье с небольшим белым воротничком и манжетами она была олицетворением самой грусти»[79].
Спустя несколько лет Фридрихсхоф посетила Джоана Фрай со своими квакерами: «Мы собрали смелость в кулак и вошли в замок. Мы лишь немного подождали, прежде чем нас провели в изысканную гостиную, окна которой выходили на прекрасный газон. Через пару минут к нам из соседней комнаты вышли принцесса с мужем, члены семьи бывшего кайзера, и заговорили с нами очень дружелюбно и просто. Мы стояли, потому что было такое ощущение, что хозяева не хотят, чтобы мы оставались надолго. Мэрион говорила, что заметила в соседней комнате, из которой они вышли, накрытый обеденный стол…»[80].
Из переписки принцессы Маргариты становится ясно, насколько ее семья была ограничена в средствах. «Огромное спасибо за письма, а также сеточки для волос, – писала она леди Коркран[81] в 1924 г. – Два фунта – действительно слишком дешево за столы, поэтому не будем их продавать и подождем более выгодного предложения. Ты пришлешь мне чек за тот белый? Я очень благодарна тебе за твою помощь, хотя, конечно, хотелось бы продать дороже»[82]. Несмотря на финансовые трудности, принцесса Маргарита, судя по всему, не совсем потеряла интерес к тому, что происходило в мире. К одному из ее писем прикреплено рекламное объявление, вырезанное из газеты: «Завейте свои волосы за десять минут. Без нагрева и электричества. Просто наденьте на волосы бигуди от компании «West Electric». На этом объявлении сестра бывшего кайзера написала: «Ты думаешь, это правда? Ты бы посоветовала попробовать эти бигуди? Наверняка реклама преувеличивает»[83].
Во время посещения замка Фридрихсхоф Стюарт Родди был неприятно поражен, увидев «вокруг массу чернокожих военных». Франция разместила в Германии большое количество своих колониальных войск, что вызвало недовольство не только самих немцев. В те времена процветал расизм, и многие англичане усмотрели в действиях Франции желание еще раз унизить Германию. Джоан Фрай отметила, что возмущение немцев с каждым днем становилось все сильнее: им приходилось строить дополнительные дома для сирот, так как «появилось много ненужных родителям темнокожих младенцев, которых не хотели брать в дома для белых детей»[84]. С шокирующей откровенностью американка Дороти Детцер так описала свои впечатления от французских военнослужащих:
«Я прибыла в Майнц приблизительно в четыре часа дня третьего сентября. Когда я вышла из поезда, мне чуть было не стало дурно от того, что я увидела. Все мы многое слышали о французской оккупационной зоне, и я представляла, что солдаты будут похожи на наших южных негров. Но я увидела настоящих дикарей. Я больше года жила на Филиппинах, поэтому сперва подумала, что снова оказалась там, с тем лишь отличием, что теперь туземцы были в форме, а не в набедренных повязках, то есть своем национальном «костюме». К этим людям я, главным образом, испытываю чувство сострадания. Я не понимаю, что можно ждать от неполноценных солдат».
Детцер также пришла в ужас от факельной процессии в Висбадене, во время которой солдаты-африканцы несли плакаты с карикатурами на «головы гуннов». Стоявший рядом с Детцер француз объяснил ей, что подобные шествия устраивают часто, чтобы напомнить немцам, кто выиграл войну. «Никогда не забуду, – писала американка, – выражения лиц молчаливых немцев, которые смотрели этот парад»[85].
Одним особенно холодным зимним днем 1923 г. молодой офицер Жак Бенуа-Мешан, служивший во французском экспедиционном корпусе, увидел в Дюссельдорфе взвод марокканских стрелков с «обожженными африканским солнцем лицами». Подобно Дороти Детцер он также испытал отвращение. «Что они делают здесь, в этой грязи и в этом тумане?» – думал Бенуа-Мешан[86].
Судя по воспоминаниям этого офицера, жизнь французов-оккупантов была не намного лучше, чем у немцев. Сразу после того, как Бенуа-Мешан прибыл на место службы, старший офицер объяснил ему, что французы и немцы в общем-то находятся в состоянии войны. Немцы часто перерезали французам провода, отчего те оставались без связи. Французам не рекомендовалось разгуливать по городу в одиночестве. Немецкие рабочие, поддерживаемые правительством, решили бросить вызов оккупантам единственным доступным для них способом: они начали оказывать французам пассивное сопротивление. Оно, правда, иногда становилось активным.
1 февраля 1923 г. Жак Бенуа-Мешан зарегистрировал 1083 акта саботажа. Он описал мрачную обстановку во французском секторе оккупации. В целях безопасности офицер сопровождал двадцать французских инженеров на фабрику Круппа в Эссене: «Снова идет снег. Над нами возвышаются краны, столбы и гигантские дымовые трубы. Четыре огромные плавильные печи. Их массивные профили точно вырезаны на апокалиптическом небе. Печи мертвы. Их трупы бросили»[87].
* * *Как бы путешественники ни объясняли сложившуюся ситуацию, многих из них (по крайней мере, людей из англоязычных стран) тронула судьба жителей Германии. Немцы из самых разных слоев населения рассказывали иностранцам, как их предали – сначала кайзер, политики и генералы, а потом президент Вильсон. Из-за Версальского договора они потеряли колонии, уголь, здоровье, благосостояние и, самое главное, – самоуважение. Немецкая марка ничего не стоила, а огромные репарации невозможно было выплатить, потому что союзники отняли у Германии ее природные ресурсы[88]. Немцы не понимали, почему Англия потакает Франции, чьи жестокие солдаты[89] из ее заморских территорий чинили насилие и убивали[90]. Как немцы могли объяснить все это своим голодным, рахитичным детям, которые благодаря так называемому «мирному» договору должны были теперь жить под властью главных врагов нации?
Путешественники видели, что жизнь в некоторых деревнях постепенно налаживалась, поскольку немцы были все так же трудолюбивы, дисциплинированы и бережливы. Но все же большинство иностранцев вернулось домой с ощущением того, что Германия страдает. Слишком много немцев жило в голоде, холоде и без какой-либо надежды на будущее.
15 ноября 1922 г. капитан Трумэн Смит прибыл в Мюнхен – город, в котором по-прежнему не утихали гражданские беспорядки и плелись политические интриги. Смит занимал в то время должность помощника военного атташе посольства США в Германии. Он отправился в столицу Баварии, чтобы составить отчет о деятельности национал-социалистов. Эта партия не играла большой роли в политической жизни страны, но американский посол хотел получить о ней более подробную информацию. Смита попросили познакомиться с людьми из окружения Гитлера и по возможности встретиться с ним самим, чтобы оценить способности и потенциал главы НСДАП. Через три дня после прибытия в Мюнхен Смит записал в своем дневнике: «Ура! Меня пригласили пойти с Альфредом Розенбергом на парад «сотен», который Гитлер будет принимать на улице Корнелиуса».
Парад впечатлил помощника военного атташе: «Удивительное зрелище. Двенадцать сотен самых отпетых головорезов, которых я когда-либо видел в своей жизни, прошли перед Гитлером чеканным шагом со старым государственным флагом и повязками со свастикой… Гитлер выкрикивал антисемитские лозунги. Публика ликовала. Я никогда не видел ничего подобного»[91].
Через несколько дней Смита представили Гитлеру, который согласился встретиться с американцем в следующий понедельник. 20 ноября Трумэн Смит поднялся на третий этаж дома № 42 на улице Георгенштрассе. Американец писал, что комната, в которой он разговаривал с Гитлером, напомнила ему «спальню в обветшавшем нью-йоркском доме, мрачном и крайне неуютном»[92]. Вспоминая эту встречу спустя много лет, Смит сожалел, что сосредоточился на вопросах о политических целях, а не на личности и особенностях характера фюрера.
Через несколько месяцев после этих событий командир Жака Бенуа-Мешана спросил своего подчиненного, не знает ли тот что-нибудь о политической партии, недавно созданной в Мюнхене неким Алоисом[93] Гитлером. Запрос о национал-социалистах поступил от Военного министерства Франции. В этом запросе, в частности, отмечалось, что Гитлер выступает перед фанатиками, проклиная всех и вся, включая Францию. Жак Бенуа-Мешан никогда раньше ничего не слышал о Гитлере и его партии, поэтому предложил начальству проконсультироваться с англичанами.
Ответ британцев пришел через два дня. Они не видели поводов для беспокойства, поскольку считали, что Национал-социалистическая партия исчезнет так же быстро, как и появилась. Она состоит из баварских сепаратистов, которые не имеют никакого веса и никакого влияния в других регионах страны. Возможно, этого Гитлера стоит поддерживать, потому что он стремится к независимости Баварии[94], что может привести к восстановлению виттельсбахской монархии и даже к развалу рейха. «Кстати, – было написано в конце сообщения, – Гитлера зовут Адольф, а не Алоис»[95].
10 ноября 1923 г., почти ровно через год после встречи Смита и Гитлера, леди Д’Абернон написала в своем дневнике, что ее мужа среди ночи разбудил звонок одного из высокопоставленных немецких дипломатов, который хотел спросить у посла совета насчет путча в Мюнхене. Главным инициатором неудавшегося переворота, по словам леди Д’Абернон, был «человек низкого происхождения»[96] по имени Адольф Гитлер.
3. Секс и солнце
Веймарская республика находилась в кризисном состоянии. Пассивное сопротивление немецких рабочих в Руре помогло жителям Германии справиться с чувством унижения. Но правительство было вынуждено печатать деньги, чтобы платить бастовавшим рабочим, и это привело к гиперинфляции[97]. Финансовый советник британского посольства Хорас Финлейсон каждый день записывал курс обмена. 15 августа 1923 г. за английский фунт давали 12 369 000 марок. 9 ноября 1923 г. (в день неудавшегося путча в Мюнхене) 2,8 миллиарда, а еще через пять недель – заоблачные 18 миллиардов[98]. Швейцарец Нума Тетаз, изучавший в Мюнхене инженерное дело, пережил этот финансовый кризис:
«Практически все занимаются перепродажей. То, что сегодня можно купить за миллион, завтра можно продать за миллиард. Главное – найти человека, который думает чуть медленней, чем ты сам. Все прекрасно понимают, что долго так продолжаться не может, но никто не знает, что делать. Словно плывешь в грязном потоке. Все живут в страхе, но ничего не меняется. Мы в нашей группе мало говорим о политике. Только на следующий день я узнал, что, оказывается, был путч»[99].
Так называемый «Пивной путч» прошел в Мюнхене 8–9 ноября 1923 г. Гитлер, генерал Людендорф, другие видные нацисты отправились в центр города вместе с двумя тысячами сторонников партии, намереваясь сначала захватить власть в Баварии, а потом свергнуть правительство в Берлине. Против путчистов выступила вооруженная полиция, которая убила шестнадцать бунтовщиков. Спустя два дня Гитлера арестовали и обвинили в государственной измене. Хотя путч потерпел неудачу, судебный процесс над Гитлером привлек внимание прессы и широкой общественности. Глава НСДАП получил возможность рассказать о своих взглядах всему немецкому народу. Гитлера приговорили к пяти годам заключения, но на самом деле он отсидел в тюрьме[100] только девять месяцев. Нацистский лидер отбывал наказание в очень мягких условиях: Гитлера поместили в комфортабельную камеру, к нему допускали посетителей, и он имел достаточно бумаги для того, чтобы написать автобиографическую книгу «Моя борьба».
Кроме путча Гитлера и гиперинфляции правительство, раздираемое внутренними разногласиями, столкнулось с другими проблемами: сепаратистами в Рейнской области, восстанием коммунистов в Саксонии, неблагонадежностью армии. Многие считали, что Германия распадется на части. Внутриполитический кризис притягивал некоторых туристов, но большинству путешественников не нравилось то, что происходило в Германии. Семнадцатилетняя американка Дороти Боген так отозвалась о своей поездке в эту страну: «Видела массу британских солдат – обалденное зрелище! Ура, ура, ура! В Бонне много французов, впервые попробовала шоколадные конфеты с ликером. Прокатилась на поезде Кельн – Берлин – долгое путешествие, но хорошо кормили. Увидела единственного немецкого солдата в Германии, он выглядел скучающим, но отнюдь не бедным или потрепанным, о нет! Добралась до Берлина. Хороший отель, но тупые официанты, просто безнадежный случай. Никогда больше в Берлин не приеду. И в Германию, клянусь, никогда не приеду. Jamais, jamais![101] У меня от них мурашки!»[102]
В 1926 г., к тому времени как Джоан Фрай и Стюарт Родди уехали из Германии, ситуация в стране изменилась. Бизнесмен Джоэл Кэдбури в одной из своих статей для квакерского издания «The Friend» задался вопросом, почему квакеры все еще помогают немцам. Кэдбури видел, как те пили в швейцарском Арозе массу шампанского и покупали в Париже дорогие автомобили, нижнее белье и мебель. То, что Германия встала с колен, было очевидно не только иностранцам, но и самим немцам. Кэдбури отмечал, что Гамбург развивается, как никогда ранее, – строят каналы, электростанции и порты[103].
Больше всех в восстановление Германии верил величайший государственный деятель Веймарской республики Густав Штреземан. Он занимал пост канцлера с августа по ноябрь 1923 г., а затем вплоть до своей смерти в 1929 г. был министром иностранных дел[104]. Историк Джон Вилер-Беннетт, который жил в Веймарской Германии на протяжении нескольких лет и знал всех, кого стоило знать, описывал Штреземана как человека с неприятной внешностью: «Он походил на свинью: маленькие, близко посаженные глазки, редкие волосы на почти лысом черепе розового цвета и неизбежная складка жира на шее»[105]. Однако жена Штреземана, по словам леди Д’Абернон, была одной из самых красивых немок, которых ей довелось увидеть в Германии. Хелен также отмечала: «В Берлине помнят, что фрау Штреземан – еврейского происхождения»[106].
Несмотря на свою внешность[107], Штреземан обладал всеми необходимыми качествами, чтобы вывести страну из кризиса. Лорд Д’Абернон сравнивал его с Уинстоном Черчиллем: «Оба блестящие, отважные и дерзкие»[108]. Штреземан был убежден в том, что страну спасет коалиция центристских партий. Он изо всех сил пытался сдерживать левых и правых экстремистов. Канцлер понял, что забастовка в Руре наносит больше вреда Германии, чем Франции, и прекратил ее в сентябре 1923 г., сделав первый шаг к стабилизации марки. С введением новой валюты – рентной марки, – которая была подкреплена землей и предприятиями, удалось остановить опустошавшую страну инфляцию. Вскоре одна рентная марка стоила триллион прежних марок. Штреземан убедил правительство принять план Дауэса[109]. Германия снова получила доступ к Руру, а также послабления в выплате репараций. Штреземан писал, что эти «подвижки» – «проблеск света на темном горизонте»[110]. После стабилизации марки в страну стали поступать инвестиции. Германия также начала получать американские кредиты.