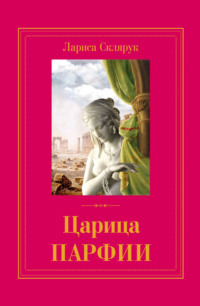Полная версия
Книга странствий
Войдя в дом, Сесиль вытащила озябшие ладони из боковых пройм сюрко[4], куда она их спрятала от прохладного ветра на улице, развела руки в сторону, как делает человек, когда удивляется, и проговорила мягким, певучим голосом:
– Что же ты сидишь, Андрэ? Выйди, посмотри, что творится на улицах.
И действительно, ранней весной 1096 года тихий городок Н. шумел, как потревоженный улей. Владелец замка Филипп Девусьон объявил о помолвке своей дочери, красавицы Изабеллы, с бароном Теодором де Морель. По случаю столь важного события устраивался рыцарский турнир, призванный украсить и сделать надолго запомнившимся семейное торжество. Десятки рыцарей в окружении оруженосцев, пажей, слуг заполнили город: ведь чем больше свита, тем важнее феодал.
Вскоре и в замке, и в городе не осталось места для всех желающих. Ряды разноцветных шатров и палаток выросли даже за городскими стенами. А в город вслед за великолепными сеньорами нахлынули торговцы, менялы, бродячие актеры. Звуки труб и рогов, звон церковных колоколов, бряцание оружия, стук копыт, гомон толпы разогнали сонную одурь маленького городка. Всех охватило радостное возбуждение.
– Пойдем, пойдем смотреть жонглеров! – запрыгал Жюль вокруг Андрэ, дергая того за руку.
Андрэ вновь шагнул к двери, и вновь ему помешали, на этот раз окончательно. Дверь открылась и впустила еще одного обитателя дома – Бастиана. Это был крепкий, несколько полноватый мужчина среднего роста, с крупным, гладко выбритым лицом.
На первый взгляд, братья были похожи: та же светлая кожа, те же русые волосы и голубые глаза. Но главным в лице Андрэ была доброта, а в лице Бастиана – привычное и плохо скрываемое раздражение. Сразу с порога, голосом, не допускающим возражений, мужчина объявил:
– Незачем бесцельно бродить по улицам. Завтра успеем все и всех рассмотреть. А сегодня надо работать.
Андрэ очень хотелось пройти по улицам, потолкаться возле выставленных в окнах домов щитов участников завтрашнего ристалища, внимательно разглядеть доспехи, мечи, длинные копья, обсудить шансы на победу каждого из рыцарей, да и просто послоняться среди горожан, которые на радостях, в ожидании турнира, побросали все свои дела и веселыми толпами бродили по узким, грязным, но оживленным улицам, запруженным повозками, лотками, крикливыми торговцами, выхваляющими свой товар.
Но спорить Андрэ не стал. Он, впрочем, как и всегда, повиновался старшему брату. В ответ на разочарованный взгляд Жюля Андрэ чуть виновато пожал плечами, погладил мальчика по белокурой головке и вернулся к своему месту за станком, поставил ноги на подножки, взял в правую руку челнок с утком. Быстро задвигались ремизки[5], застучал батан[6]. Полотно начало наматываться на валик.
Бастиан обвел торжествующим взглядом жену и детей. Беспрекословное повиновение младшего брата льстило его самолюбию. К тому же Андрэ работал исключительно быстро. И хотя вслух Бастиан никогда этого не говорил, он прекрасно понимал, что доходы от работы Андрэ составляют большую часть семейного бюджета. Это была главная причина, по которой Бастиан считал своим долгом держать младшего брата в строгости и не позволять ему никаких вольностей.
Сесиль растерянно потопталась на месте, не одобряя ни слов мужа, ни его поведения, и жалея расстроенного сына, но ничего не сказала. Женщина подтянула спереди подол своего платья так, что стали видны полосатые чулки, и начала разводить огонь в очаге.
Сесиль коробило неуместное торжество мужа, его несправедливость в отношении Андрэ. Несколько раз она пыталась поговорить с Бастианом, объяснить ему, что его давление на брата чрезмерно, но муж был слишком самоуверен. Он считал невозможным для себя прислушиваться к словам женщины. Человек своего времени, Бастиан утверждал, что физическая слабость женщин прямо сказывается на их умственных способностях. К тому же каждая женщина была великой грешницей и коварной искусительницей. Разве, послушав ее однажды, мужчина в лице Адама не был изгнан из Рая?
– Именно ты соблазнила того, кого не сумел соблазнить дьявол, – восклицал Бастиан, повторяя слова Тертуллиана[7], этого средневекового женоненавистника. – Исправление твоей вины стоило жизни Сыну Божьему.
Такими словами и обвинениями встречал Бастиан все робкие попытки Сесиль вступиться за Андрэ. Его голос при этом гремел, рокотал, сотрясал атмосферу дома, и тихая женщина, пугаясь, замолкала.
Глава третья,
в которой Андрэ принимает важное решение, изменившее его жизнь
Мрачный серый замок барона Филлипа Девусьона, расположенный на высоком холме, словно властвовал над округой. Его массивные каменные стены, круглые толстые угловые башни казались вросшими в землю, настолько они были приземисты и тяжеловесны. Глубокие бойницы в стенах, узкие проемы редких окон – все говорило о том, что строители заботились не о красоте, уюте или удобстве обитателей: главными были надежность и неприступность. И это им вполне удалось: окруженный глубоким рвом, замок выглядел, как суровый воин, вызывающий с первого же взгляда трепет и уважение.
Розовый луч восходящего солнца коснулся края высоких зубчатых стен замка, и сразу со стены протрубил рог, возвещавший наступление утра. И, словно в ответ на долгожданный сигнал, над городскими крышами потянулись в холодное мартовское небо тонкие струйки серого дыма. Расторопные хозяйки начали разводить огонь, готовя еду. Все спешили позавтракать и отправиться за город.
Местность вокруг городских стен была очень красива. На пологих холмах сквозь сухую прошлогоднюю траву старательно пробивались острые стрелы новой, ярко-зеленой. Пощипывая травинки, живописно разбрелись тощие после зимы овцы. Внизу, между холмами, крепко вцепились корнями в землю столетние дубы. Раскинув кроны, они протягивали к солнцу корявые, изогнутые ветви, покрытые набухшими почками.
По лазурному мартовскому небу медленно плыли серовато-белые облака. Когда они наплывали на солнце, все вокруг тускнело, а налетающий в это время ветер казался обжигающе ледяным. Но весеннему солнцу удавалось быстро освобождаться от пушистых облачных покрывал, и оно принималось светить столь опьяняюще горячо, словно стремилось наверстать упущенное. Тогда ветер терял свой холод и игриво развевал разноцветные стяги, вымпелы, перья на шлемах. Под яркими лучами сверкали латы рыцарей, которые прислуга всю ночь катала по улицам в бочках с песком, добиваясь ослепительного блеска.
В ожидании начала турнира разомлевшие от тепла зрители беспечно толкались возле лотков торговцев снедью, плотным кольцом окружали жонглеров, без искусства которых не обходился ни один праздник, восхищенно ахали, глядя на танцующего медведя. Андрэ с Жюлем уже обошли все эти развлечения и теперь заняли места среди таких же, как они, простолюдинов, возле двойного забора, ограждавшего место поединка.
По другую сторону ограждения были устроены деревянные ложи, предназначенные для знатных сеньоров и дам благородного происхождения. Эти ложи были в избытке застланы коврами и задрапированы пестрыми тканями. Простолюдины с жадным интересом рассматривали и устройство лож, и одеяния господ.
В те времена Европа еще не знала восточных тканей с золотыми или серебряными переплетениями. Одежда знати, как женская, так и мужская, шилась из гладкокрашеного полотна, но цвета были яркими, звучными и радовали глаз всеми оттенками кармина[8] – от розового до бордового, зеленым, белым, ярко-синим цветом.
С достоинством прошла на приготовленное для нее место Изабелла Девусьон. Ее белая накидка, отделанная благородным мехом, удерживалась на плечах двумя аграфами[9] из драгоценных камней. Жарко вспыхнули, переливаясь, темно-красные гранаты в золотом венце, украшающем ниспадающие свободной волной светлые волосы девушки.
Как и все присутствующие, Андрэ следил за юной красавицей, не в силах отвести зачарованный взгляд. Но Жюль, со свойственным детям эгоизмом, не мог позволить кому-то, кроме себя, владеть вниманием Андрэ и, бесконечно дергая юношу за руку, задавая самые неожиданные вопросы, быстро «излечил» того от очарования.
– А почему дамы не хотят занять это место? Оно ведь самое красивое, – спросил Жюль, показывая на свободную, роскошно убранную ложу под алым балдахином.
– Да нет, они хотят, очень хотят, – улыбнувшись, возразил Андрэ, – но это ложа для королевы турнира, а ее имя пока никто не знает.
– Почему?
– Имя королевы должен назвать победитель.
– А кто будет победителем?
– Им будет тот, кто преломит больше копий, выбьет из седла больше рыцарей, но сам в седле усидит.
– А-а, – Жюль открыл рот, чтобы продолжить свои вопросы, но, утомленный его дерганьем, Андрэ прервал мальчика:
– Тсс, помолчи. Дай послушать герольда.
В это время двое молодых мужчин подошли и остановились в некотором отдалении от Андрэ. Один из них был высок ростом, худ, костляв. Спина, изогнутая вопросительным знаком, нелепо выдвигала вперед тонкую длинную шею с небольшой головой. Из-под войлочной шляпы свисали редкие пряди сальных волос. Весь облик тощего Гентольда являл собой символ грусти и меланхолии.
Второй подошедший был полной противоположностью Гентольда, как внешностью, так и темпераментом характера. Живое, подвижное лицо Эрмона с заостренным подбородком и желтыми плутовскими глазами напоминало веселую лисью мордочку, высовывающуюся из кустов. Уголки тонких подвижных губ таили бездну лукавства и постоянно ухмылялись. Разговаривая, Эрмон помогал своему красноречию быстрыми жестами рук, дерганьем плеч, покачиванием ног.
Вместе с Гентольдом они являли интересную пару, и частенько можно было наблюдать такую картину: тощий, высокий, изогнутый Гентольд, по-птичьи склонив набок голову, внимательно и молча смотрит, как невысокий Эрмон без устали говорит и жестикулирует. При этом на худом лице Гентольда читалось удивление чужой неуемной энергией.
– Ущипни меня, Гентольд! – насмешливо воскликнул Эрмон, подталкивая приятеля. – Наверное, я сплю, и во сне мне привиделся знакомый нам Андрэ, свободно разгуливающий за воротами города. Неужели молодого бычка отпустили попастись на зеленый лужок? Ай-я-яй, какая неосторожность со стороны Бастиана! Ведь могут же появиться такие свирепые волки, как мы с тобой, которые утащат дурачка, то бишь бычка, в темную чащу людских пороков.
Андрэ быстро повернулся к говорившему и широко улыбнулся, показав ряд белоснежных зубов.
– Скажи мне, Гентольд, что я ошибаюсь, – продолжал между тем Эрмон, преувеличенно жестикулируя, завывая на гласных звуках, закрывая глаза, словно говорил драматический монолог. – Где же стражники, охраняющие невинную душу? Неужели этому юному отроку дозволено сегодня быть пастухом безропотного тельца, приносящего звонкие золотые монеты? – и Эрмон, выбросив вперед руку, указал ею на Жюля.
Тот, ничего не поняв из слов Эрмона и не оценив театральных завываний последнего, в ответ громко шмыгнул носом, а затем с помощью указательного пальца стал сосредоточенно заниматься его очищением.
– Тьфу, Жюль, ты явно не блещешь благородством происхождения, – дернув плечом, чуть обиженно проговорил Эрмон, прекратив монолог.
Тут раздался хриплый голос Гентольда, который, в отличие от Эрмона, говорил медленно, словно боялся тратить свои жизненные силы, а потому никогда не говорил лишних слов, всегда выхватывая самую суть.
– Из подвалов замка выкатили огромную бочку с вином. Мы направляемся туда. Не мешало бы мне промочить горло. Пошли с нами, Андрэ.
Продолжая улыбаться, Андрэ тут же согласно кивнул головой и шагнул вперед, готовый идти. Но шагнув, он стремительно и непроизвольно оглянулся, словно удостоверился, что за его спиной нет Бастиана, и никто его не остановит. Это быстрое оглядывание, конечно же, не укрылось от острых глаз Эрмона.
– О-хо-хо, – укоризненно покачал он головой, – можно подумать, что ты – раб Бастиана, а не его брат. Впрочем, даже рабам дают день отдыха. Что ж, осмотрелся ты предусмотрительно, а теперь пойдем, дружище, и пусть игривое вино развеселит нам сердца.
Из подвалов замка действительно выкатили бочку, правда, не столь огромную, как утверждал Гентольд, но к тому моменту, когда приятели подошли, в ней еще оставалось достаточно влаги. Толстый, неповоротливый виночерпий, на мягком лице которого сизой виноградиной торчал нос, наполнил приятелям оловянные чаши. Эрмон при этом по-хозяйски на него покрикивал: «Полней! Наливай полней! Наливай до краев!», чем несказанно разозлил виночерпия. Качнув лысой головой и скривив пухлые губы пьяницы, тот даже вознамерился огреть Эрмона кувшином по вертлявой спине, но это ему не удалось по причине неповоротливости. Пока он размахивался, Эрмон, отскочив на недосягаемое для кувшина расстояние, уже приплясывал, выделывая ногами в туго обтянутых штанах и башмаках с длинными острыми носами нелепые па.
Приятели присели на подсохшую траву на небольшом пригорке. Жюль, получивший горячую овсяную лепешку, жадно откусывал большие куски, рискуя подавиться. Гентольд, неодобрительно поглядывая на мальчика, осторожно отпил из своей чаши и неспешно заговорил:
– Вчера на рынок приехали продавать масло крестьяне из деревни А. Так они все божатся, что собственными глазами видели, как по небу плыли тучи.
– Эка невидаль – тучи на небе! – хохотнул Эрмон.
– Невидаль? Да ты дослушай сначала, – обиделся Гентольд и добавил мстительно: – Наш священник говорит, что смех есть осквернение рта.
Впечатлительный Жюль застыл с открытым ртом, не дожевав куска. Андрэ молча отпивал вино, наблюдая за Эрмоном. Тот сделал вид, что слова Гентольда произвели на него сильнейшее впечатление, задумчиво почесал в затылке, развел руками и сказал:
– Придется прополоскать рот.
– Тьфу, богохульник! – улыбнулся Гентольд бледными губами. – Ну что ты будешь с ним делать?
– Да ты рассказывай, – поторопил Андрэ, и Гентольд продолжил:
– Так вот, тучи почему-то надвигались с двух сторон. Одни шли с востока, а другие – с запада. Никто никогда такого не видывал. И были эти тучи не белые и не серые, а алые, как если бы их в кровь окунули. Во всей деревне собаки завыли, так завыли, что у жителей просто мороз по коже прошел. А когда тучи столкнулись, раздался жуткий грохот, засверкали молнии, и в наступившей затем тишине все услышали звуки далекой битвы. Звенел металл, ржали кони, кричали люди. Ты смеешься?
– Да я что, я ничего, – пробормотал Эрмон, потрясенный рассказом.
– Это явное знамение, – хрипло сказал Гентольд, перекрестившись.
– Какое знамение? Чего знамение? – испуганно воскликнул Жюль.
– Битв великих между Западом и Востоком, – продолжил Гендольд, погрозив кому-то костлявым указательным пальцем.
У слушавших его перехватило дыхание. Эта животрепещущая тема волновала весь католический мир.
Но тут раздавшийся сигнал возвестил начало турнира, и все заторопились, жаждая увидеть зрелище. Вокруг ристалища[10], обильно посыпанного песком, теснилось так много народа, что друзьям с трудом удалось протиснуться к ограждению. А чтобы Жюлю в толпе не отдавили ноги, Андрэ посадил его себе на плечо.
С двух сторон поля ждали сигнала два конных отряда. Горячились красавцы кони, покрытые яркими шелковыми попонами, сияли позолоченные уздечки, сверкала броня и шлемы.
Закрывшись щитами, выставив вперед прижатые к бедру копья, всадники помчались навстречу друг другу. От ударов копыт заколыхалась, задрожала земля, как в настоящей битве. Сотни зрителей замолчали и затаили дыхание. Все быстрее летят кони. Гулкий удар. Бойцы сшиблись и на мгновение скрылись в поднявшейся пыли. Громко взвизгнули простолюдинки. Высокородные же дамы визг себе не позволили – от волнения они лишь слегка побледнели, томно прижав руки к сердцу. После удара всадники развернули коней и вернулись к месту, с которого начали движение, готовиться к следующей атаке.
На грязном песке остался лежать выбитый из седла рыцарь, вокруг которого закружил его белый, под голубой попоной, конь. Победитель, отъехав чуть в сторону, бросил копье, как требовали правила турнира, и поднял правую руку. Рев ликующей толпы и благосклонные улыбки дам приветствовали его.
– Неправильно, – неожиданно громко сказал стоящий рядом с Андрэ коренастый мужчина. Темное, словно прокопченное, лицо его почти до самых глаз заросло густой черной бородой. Сверху над небольшими глазами нависали косматые брови. Свободными от растительности были крупный пористый нос и верхняя часть щек, причем и нос, и щеки, и ладони мужчины не оставляли сомнения в том, что с водой они встречаются не слишком часто – ну, разве лишь во время дождя.
– Что неправильно? – тут же откликнулся Эрмон, быстро оглядев коренастого с ног до головы и безошибочно признав в нем пастуха. Мужчина, чрезвычайно довольный тем, что смог привлечь к себе внимание, важно продолжил:
– Он, ну, тот ударил в забор, и ему должны не дать, а, наоборот, снять.
– Что он сказал? – не поняв слов пастуха, спросил Жюль у Андрэ, наклонив голову и заглядывая тому в лицо. Дерзкий насмешник Эрмон тут же увидел возможность съязвить:
– Дорогой Жюль, видимо, лишь я смогу объяснить столь глубокомысленную речь. Известно ли тебе, что овцам, чтобы толстеть, необходима трава, а не воскресные проповеди? А потому пастухам совершенно не нужен не только дар красноречия, но и вообще возможность изъясняться словами. Это слишком большая нагрузка для их голов. Вполне достаточно, если пастух будет так же жалобно бекать, как и его толстозадые питомцы. Но вернемся к словам нашего нового знакомого. Этот пустоголовый предводитель бараньих стад хотел сообщить нам свои редкостные знания в столь важном деле, как организация турниров, правила которых гласят: «Если рыцарь выбивает противника из седла, он получает очки, а если при этом он попадает копьем в барьер, то, напротив, с него снимается два очка». Я правильно объяснил? – насмешливо обратился Эрмон к коренастому мужчине.
По мере того, как Эрмон говорил, пастух менялся в лице. Глаза мужчины расширились, рот приоткрылся – видимо, уследить за быстрой речью Эрмона ему было непросто. В ответ на вопрос Эрмона мужчина на всякий случай кивнул головой.
– Тогда продолжу. Никто из нас, стоящих здесь, не заметил удара копья по барьеру. Лошадь же действительно стукнула копытом. Но, возможно, пастухам трудно понять различие между рыцарским копьем и ногой коня.
Как ни тяжел и неповоротлив был ум крестьянина, все же он стал понимать, что этот юркий горожанин просто над ним насмехается.
Мужчина опустил голову и, глядя исподлобья, стал похож на барана перед нападением. Лохматые брови угрожающе топорщились. Торчали во все стороны нечесаные волосы. Безрукавка с клочьями свалявшейся шерсти придавала мужчине шутовской вид, но выпачканные землей руки были сильны, и сжимали они толстую корявую палку. И пришлось бы Эрмону испытать отрезвляющие удары этой палки на своей спине, если бы не Андрэ.
– Не обижайся на Эрмона, – примирительно обратился Андрэ к крестьянину, – он известный зубоскал и горазд на колкости. Что ж делать? Навоз не может не вонять. Я тоже слышал удар по барьеру, но не берусь сказать, что это было – копье или копыто коня. Подождем решения судей.
Лохматый пастух перевел взгляд на говорившего. И то ли приветливое лицо Андрэ, бесхитростный взгляд его глаз, уважительная речь, а может, и высокая фигура с сильными плечами, на одном из которых, без видимого напряжения для их обладателя, уютно устроился семилетний мальчик, но крестьянин вдруг успокоился, поскреб всей пятерней в зарослях бороды, надеясь распугать насекомых, и отвернулся.
Видя, что ему ничего не угрожает, Эрмон выдвинулся из-за чьей-то широкой спины, куда он успел моментально спрятаться, и выговорил Андрэ:
– Как ты смеешь унижать мое достоинство перед этим мужланом?
– А удары палкой по хребту твоему достоинству, конечно бы, не повредили? – добродушно парировал Андрэ. С его плеча колокольчиком раздался счастливый смех Жюля.
– Ну… – начал Эрмон. Всегда готовый к ядовитым насмешкам над другими, он не переносил колкости в свой адрес, но все взоры в этот момент обратились к ристалищу, на котором вновь навстречу друг другу помчались рыцари.
Обычно таких столкновений бывало три и более. Но сегодня, после вторичной сшибки, за спинами зрителей раздался голос, заставивший всех присутствующих забыть о турнире.
В стороне, у подножия холма, стоял пожилой монах, низкорослый и смуглый. В его внешности не было ничего выдающегося, скорей, наоборот, – он был тщедушен. Но взгляд пронзительных глаз был приятен и притягивал к себе слушавших его. Одет он был в простую шерстяную тунику и грубый тяжелый плащ с остроконечным капюшоном, более похожий на попону вьючного животного, чем на одежду человека. На груди монаха был нашит большой красный крест. Земля еще не согрелась после зимы, но он стоял босой, без обуви и чулок, и ноги его закраснелись от холода.
– Созовите народ, – громким голосом произнес монах, – и я, Петр Пустынник, с благоволения Господа нашего Иисуса Христа и милости Девы Марии открою вам истину, ни в чем не солгу.
– Петр Пустынник, это Петр Пустынник, – все громче заговорили в толпе.
Осенью 1095 года в Клермоне (Южная Франция) собрался большой церковный собор, на котором папа Урбан Второй призвал верующих отправиться в Святую Землю, то есть в Палестину, и отобрать Гроб Господень у мусульман. Была названа дата сбора – 15 августа 1096 года, и место сбора – Константинополь.
– Я говорю присутствующим, поручаю сообщить отсутствующим. Так повелевает Христос[11], – закончил папа свое выступление.
Многочисленные фанатично настроенные проповедники разнесли призыв папы по всей Западной Европе. Особенно выделялся монах Петр из французского города Амьена, получивший прозвище Пустынник. И это он сейчас стоял в небольшой лощине между двумя пологими холмами, ожидая, пока вокруг него расположатся все те, кто еще минуту назад стоял у ограды ристалища. Вот Петр оглядел всех, развел в стороны руки, словно охватывая, обнимая ими слушателей, и заговорил:
– О, какое величайшее безумство вы совершаете, бесцельно растрачивая свою жизнь! Вы, лучшие рыцари, отважные воины, бесстрашные храбрецы, раскалываете свои щиты, ломаете копья, раздираете одежды, получаете ушибы и переломы, рискуете и вовсе потерять жизнь, и все на потеху толпы. А там, в Палестине, – он резко показал рукой на восток, – братья наши во Христе терпят ужасы от проклятых язычников. И церкви Божии срывают они до основания, и опрокидывают алтари, и оскверняют их, и пронзают христиан посреди живота. Кто, спрашиваю я вас, сможет удержать глаза свои сухими, узнав об этом?!
Полный рыданий, проникновенный голос проповедника вызывал дрожь и ответные рыдания. Держа в руках простое деревянное распятие, Пустынник поднимал его к небу, и тысячи глаз тянулись вслед за ним. А голос проповедника звучал все громче, гремел над зачарованными толпами:
– К вам взывают братья наши! К вам протягивают свои горестные руки! Придите и исторгните эту священную землю, в которой проповедовал и страдал Спаситель, у народа нечестивого, у народа бесчестного! Да поразит их Господь всеми муками ада!
Слова сурового проповедника находили живой отклик в сердцах, воспламеняли христианское воображение, возбуждали негодование страданиями палестинских христиан. В религиозном экстазе многие опускались на колени, из глаз текли слезы, слышались рыдания.
Андрэ не был исключением. Не отводя горящих глаз от лица Петра Пустынника, он медленно опустил на землю Жюля и теперь стоял, выпрямившись во весь рост. Его грудь от волнения вздымалась. С последними словами проповедника Андрэ упал на колени, истово перекрестился и проговорил со всеми:
– Так угодно Богу!
Весной 1096 года желание посетить святые места и завоевать Восток стало единственным стремлением, всеобщей страстью. Кого-то толкало в поход благочестивое стремление, кого-то – земные блага. В Андрэ же переплелись религиозный экстаз и возможность увидеть новые земли. Дремавшие до сих пор чувства ярко вспыхнули. Здесь было и желание защищать невинных, и отвага, и стремление к славе, и жажда приключений. Словом, в нем проявились чувства, достойные не ткача-горожанина, а славного рыцаря. Огромный незнакомый мир открывался за воротами убогого городка. Сказочный Восток манил неодолимо. Тут же, на месте, Андрэ решил отправиться в путь по стезе Господней и принял крест. Затем он поднялся с колен и быстро пошел в сторону города.
– Андрэ, куда ты? – окликнул его Эрмон.
– Собираться, – кратко ответил Андрэ. – Я уйду завтра на рассвете.
– Завтра на рассвете! – восхищенно воскликнул Эрмон, нагоняя Андрэ и заглядывая ему в лицо. Он хотел съязвить насчет получения разрешения Бастиана, но, взглянув в лицо Андрэ, поразился: перед ним словно был другой, незнакомый человек, уверенный в себе, твердый в своих намерениях, возможно, даже безрассудный в поступках. Впрочем, никто и не осмелился бы остановить человека, принявшего крест.