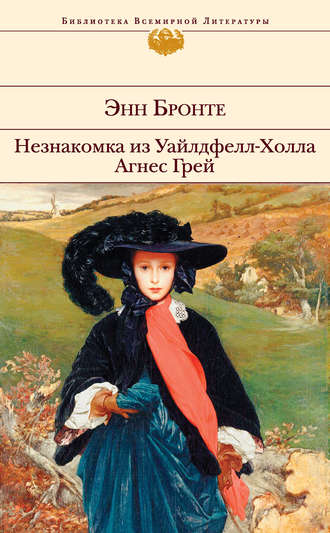
Полная версия
Незнакомка из Уайлдфелл-Холла. Агнес Грей
А теперь, Холфорд, я на время прощаюсь с тобой. Это первый взнос в счет моего долга. Если такая монета тебе подходит, извести меня, и я буду посылать тебе остальные по мере написания. Если же ты предпочтешь остаться моим кредитором и не отягощать свой кошелек такими тяжелыми медяками, извести меня и об этом, и я, извинив твой дурной вкус, с удовольствием оставлю их себе.
Неизменно твой
Гилберт Маркхем.Глава II
Встреча
С большой радостью, мой самый дорогой друг, я убедился, что облако твоей досады уплыло прочь, ты вновь сияешь мне, как прежде, и желаешь узнать продолжение моей истории. Так получи же его без дальнейших проволочек!
По-моему, я остановился на воскресенье – последнем в октябре 1827 года. Во вторник после него я с собакой и ружьем отправился на поиски той дичи, которую мог бы найти в пределах Линден-Кара, но не нашел. Тогда я решил обратить свое оружие против ястребов и хищных ворон, чей разбой, по моему убеждению, и лишил меня более желанных трофеев. А потому я покинул приветливые лесные долины, хлебные поля и обширные луга ради крутых склонов Уайлдфелла – самого высокого и дикого холма в нашем краю. Я поднимался все выше, а живые изгороди и деревья становились все более низкими и чахлыми. Затем первые сменились стенками, сложенными из нетесаных камней, от вторых же кое-где остались лишь лиственницы да ели и одинокие кусты терновника. Твердая каменистая земля не годилась под посевы и служила пастбищем для скота и овец. Слой тощей почвы был очень тонок, и из травянистых кочек торчали серые камни, под стенками ютились голубика и вереск, наследие первозданной дикости, а во многих местах траву заглушали осока и амброзия… Но ведь земля эта принадлежала не мне!
Почти у самой вершины в двух милях от Линден-Кара стоял Уайлдфелл-Холл – старинный господский дом елизаветинских времен, построенный из серого камня, весьма благородный и живописный на вид, но внутри, без сомнения, холодный и темный. Узкие окна с частыми переплетами в толще стен, разъеденные временем вентиляционные отверстия, безлюдие вокруг, открытость всем ветрам и непогодам, от которых его не могли защитить посаженные с этой целью ели, давно изуродованные бурями, столь же мрачные и угрюмые, как само здание, – все это делало его малопригодным для обитания. Позади него виднелись два-три чахлых луга и бурая от вереска вершина, а перед ним (обнесенный каменной оградой с чугунными воротами между каменными столбами, которые увенчивались шарами из серого гранита, такими же, какие украшали парапет и башенки) располагался сад, где некогда взращивались цветы и травы, достаточно нетребовательные к почве и закаленные против капризов погоды, а также деревья и кусты, наиболее покорно принимающие под жесткими ножницами садовника те формы, какие решала придать им его фантазия. Теперь же, на долгие годы предоставленный самому себе, брошенный без ухода на жертву заморозкам и засухе, ливням и бурям, заросший бурьяном, сад являл собой странное зрелище. Окаймлявшая главную аллею живая изгородь из бирючины на две трети засохла, а оставшаяся треть нелепо разрослась, куст, некогда подстриженный в виде лебедя, утратил шею и половину туловища, пирамиды лавров в центре сада, гигантский воин по одну сторону ворот и лев, охранявший другую, буйно выбросили новые ветки и приобрели совсем уж фантастический вид, подобие которому нельзя было найти ни на земле, ни на небе, а если на то пошло, то и в воде. Однако моему юному воображению все они представлялись сказочными чудищами вполне в духе тех жутких легенд и преданий, которыми пичкала нас наша старая няня, повествуя о былых обитателях покинутого дома и о привидениях, которые там являются.
К тому времени, когда я вышел к Уайлдфелл-Холлу, мне удалось подстрелить ястреба и двух ворон, но я уже оставил мысли о дальнейшей охоте и неторопливо направился к старинной усадьбе поглядеть, насколько она изменилась после появления там новой обитательницы. Разумеется, я не мог подойти к воротам и заглянуть внутрь, но остановился у садовой ограды. Насколько я мог судить, все осталось прежним, если не считать обновленной крыши и стекол, вставленных в разбитые окна одного из флигелей, над трубами которого вился дымок.
Пока я стоял там, опираясь на ружье, и предавался прихотливым фантазиям, в которых былые ассоциации и молодая отшельница, поселившаяся теперь в этих старинных стенах, играли равную роль, до моего слуха донесся шорох и какие-то поскребывания. Взглянув в ту сторону, я увидел, как за верхний край ограды ухватилась маленькая ручонка, к ней присоединилась другая, над серым камнем появился белый лобик, обрамленный каштановыми кудрями, а затем пара синих глазенок и беленькая переносица.
Глазенки меня не заметили, но радостно уставились на Санчо, моего сеттера, черно-белого красавца, который кружил по склону, пригибая морду к земле. Над стеной возникло детское личико, и детский голосок окликнул «собачку». Добродушный пес остановился, поднял морду и дружески вильнул хвостом, однако не проявил никакого желания свести более близкое знакомство. Ребенок – мальчик лет пяти – взобрался на верх ограды и продолжал звать собачку, но, убедившись в тщетности своих окликов, видимо, решил последовать примеру Магомета и самому пойти к горе, раз уж она не пожелала пойти к нему. Но едва он перевесился через ограду, как его платьице зацепила одна из корявых веток, которые раскинула над ней старая вишня. Малыш попытался высвободиться и сорвался со стены, однако не упал на землю, а повис в воздухе, болтая ножонками и испуская громкие вопли. Но я уже бросил ружье и подхватил бедняжку на руки, утер ему глаза краем платьица, сказал, что бояться нечего, и подозвал Санчо, чтобы совсем его утешить.
Он как раз обнял сеттера за шею и улыбнулся сквозь слезы, когда громко стукнула калитка, послышался шелест женских юбок и ко мне подбежала миссис Грэхем – шея ее не была укрыта даже шарфом, черные волосы развевались на ветру.
– Отдайте мне ребенка! – сказала она тихо, почти шепотом, но яростно, и вырвала мальчика из моих рук, словно оберегая от страшной заразы, а потом, сжимая его в объятиях, устремила на меня огромные, сверкающие, темные глаза – бледная, задыхающаяся от страшного волнения.
– Я ничего дурного мальчику не сделал, сударыня, – сказал я, не зная, удивляться ли мне или сердиться. – Он перелез через ограду, но, к счастью, я успел подхватить его, когда он зацепился вон за тот сук, и предотвратил возможную беду.
– Прошу у вас прощения, сэр, – пробормотала она, внезапно успокаиваясь, словно рассеялся туман, омрачивший ее рассудок. Бледные ее щеки чуть порозовели. – Но мы с вами не знакомы, и я подумала…
Она умолкла, поцеловала мальчика и нежно обвила рукой его шею.
– Подумали, что я вознамерился похитить вашего сына?
Она смущенно засмеялась, поглаживая его кудряшки.
– Мне ведь в голову не пришло, что он способен перелезть через ограду… Я имею удовольствие говорить с мистером Маркхемом, не правда ли? – внезапно спросила она.
Я поклонился и не удержался от вопроса, как она догадалась о моем имени.
– Ваша сестра несколько дней назад приезжала сюда с вашей матушкой.
– Неужели мы так похожи? – воскликнул я с удивлением и отнюдь не столь польщенно, как, возможно, следовало бы.
– Пожалуй, цвет ваших волос и еще глаза… – ответила она, с некоторым сомнением взглянув на мое лицо. – И по-моему, в воскресенье я видела вас в церкви.
Я улыбнулся. Эта улыбка, а может быть, разбуженные ею воспоминания чем-то раздражили миссис Грэхем. Во всяком случае, она вновь приняла тот гордый, холодный вид, который задел меня в церкви – выражение неизмеримого презрения, которое так гармонировало с ее чертами, что казалось естественным для них, пока не исчезало, – и тем более меня злило, что я не мог счесть его притворным.
– Прощайте, мистер Маркхем, – сказала она и ушла с мальчиком в сад, не удостоив меня больше ни единым словом или взглядом.
Я задержался только для того, чтобы подобрать с земли ружье и пороховницу да объяснить дорогу какому-то заблудившемуся на холме прохожему, а затем отправился в дом при церкви, чтобы утешить оскорбленное самолюбие и развлечься в обществе Элизы Миллуорд.
Как обычно, она сидела за пяльцами, вышивая шелком (увлечение берлинской шерстью еще не началось), а ее сестра с кошкой на коленях штопала в углу чулки – перед ней их лежала целая груда.
– Мэри! Мэри! Да убери же! – вскрикнула Элиза, увидев меня в дверях.
– И не подумаю, – последовал невозмутимый ответ, а мое присутствие сделало дальнейший спор невозможным.
– Вы так неудачно пришли, мистер Маркхем, – продолжала Элиза с одним из своих лукаво-поддразнивающих взглядов. – Папа только-только отправился куда-то по приходским делам и вернется не раньше чем через час.
– Ничего, на несколько минут я смирюсь и с обществом его дочерей, если на то будет их соизволение, – ответил я, придвигая стул к камину и усаживаясь без приглашения.
– Ну, если вы сумеете нас развлечь, мы возражать не станем.
– Э нет! Без всяких условий! Ведь я пришел не развлекать, но развлечься! – ответил я.
Но тем не менее счел себя обязанным быть приятным собеседником и, видимо, преуспел в своем намерении, так как мисс Элиза пришла в отличнейшее расположение духа. Довольные друг другом, мы весело болтали о всяких пустяках. Это был почти тет-а-тет, так как мисс Миллуорд хранила молчание, лишь изредка его прерывая, чтобы поправить какое-нибудь чересчур уж легкомысленное утверждение своей сестрицы, и один раз попросила ее поднять клубок, закатившийся под стол. Однако, естественно, поднял его я.
– Спасибо, мистер Маркхем, – сказала Мэри, беря клубок. – Я бы и сама за ним встала, но не хочется будить кошечку.
– Мэри, душка, это тебя в глазах мистера Маркхема не оправдывает! – заметила Элиза. – Полагаю, он, как и все джентльмены, терпеть не может кошек, как и старых дев. Правда, мистер Маркхем?
– Мне кажется, наш суровый пол недолюбливает кошечек и птичек потому, что прекрасные девицы и дамы изливают на них слишком уж много нежности.
– Но ведь они такая прелесть! – В порыве неуемного восторга она вдруг накинулась с поцелуями на любимицу сестры.
– Да перестань же, Элиза! – сердито сказала та и нетерпеливо оттолкнула шалунью.
Но мне пора было уходить. Я вдруг спохватился, что того и гляди опоздаю к чаю, а матушка отличалась редкой пунктуальностью.
Моя прелестная собеседница попрощалась со мной весьма неохотно. Я нежно пожал ей ручку, а она одарила меня самой ласковой своей улыбкой и чарующим взором. Я шел домой очень счастливый: мое сердце полнилось самодовольством, а любовь к Элизе так даже переливалась через его край.
Глава III
Спор
Два дня спустя нам нанесла визит миссис Грэхем – вопреки предсказаниям Розы, не сомневавшейся в том, что таинственная обитательница Уайлдфелл-Холла не считает для себя обязательными правила вежливости. В этом убеждении мою сестрицу поддерживали Уилсоны, которые то и дело вспоминали, что их визит, как и визит Миллуордов, остался пока без ответа. Однако теперь причина такой неучтивости объяснилась, хотя Роза и не совсем ей поверила. Миссис Грэхем привела с собой сына, а когда матушка выразила удивление, что малыш совершил такую длинную прогулку до Линден-Кара, сказала:
– Да, для него это очень большое расстояние, но иначе мне вовсе пришлось бы отказаться от визита к вам. Ведь я никогда не оставляю его одного. И, миссис Маркхем, прошу вас, когда вы увидитесь с миссис Уилсон и Миллуордами, передайте им мои извинения. Боюсь, я должна буду лишить себя удовольствия побывать у них, пока Артур немного не подрастет.
– Но у вас же есть служанка! – заметила Роза. – Разве нельзя оставить его с ней?
– У нее много других забот. Кроме того, она слишком стара, чтобы успевать за ним, а он очень подвижный ребенок, и было бы жестоко принуждать его сидеть возле старухи.
– Но ведь вы оставили его, чтобы побывать в церкви?
– Да, один раз. Но ни для чего другого я бы с ним не рассталась. И, думаю, в будущем либо я должна буду брать его с собой в церковь, либо сама оставаться дома.
– Неужели он такой шалун? – спросила матушка с негодованием.
– Вовсе нет, – с печальной улыбкой ответила миссис Грэхем, поглаживая кудрявую головку сына, который сидел на скамеечке у ее ног. – Но он мое единственное сокровище, и у него, кроме меня, нет никого. Поэтому нам не хочется расставаться.
– Извините, дорогая моя, это я называю слепым обожанием, – объявила моя прямодушная родительница. – Постарайтесь подавлять такую глупую любовь, и не просто чтобы не выглядеть смешной, а чтобы спасти сына от гибели.
– Гибели, миссис Маркхем?
– Да. Баловство портит ребенка. Даже и в таком нежном возрасте ему не следует все время держаться за материнскую юбку. Ему должно быть стыдно!
– Миссис Маркхем, прошу вас, не говорите такие вещи – во всяком случае, при нем! Надеюсь, мой сын никогда не будет стыдиться любить свою мать! – произнесла миссис Грэхем с такой страстностью, что мы все были поражены. Матушка попыталась успокоить ее, объяснить, что она не так ее поняла, но наша гостья предпочла резко переменить разговор.
«Как я и думал! – сказал я себе. – Характерец у нее не из кротких, каким прелестным ни кажется ее бледное лицо и гордый лоб, на который раздумья и страдания как будто равно наложили печать!»
Все это время я сидел у столика в противоположном углу, притворяясь, будто погружен в чтение «Журнала для фермеров», который держал в руке, когда доложили о нашей посетительнице. Не желая выглядеть дамским угодником, я ограничился поклоном и остался на прежнем месте.
Однако вскоре я услышал приближающиеся робкие шажки. Малыш Артур не устоял перед соблазном – ведь Санчо, мой пес, лежал у моих ног! Положив журнал, я увидел, что мальчик остановился ярдах в двух от меня, грустно устремив синие глаза на собаку, – удерживала его не боязнь, а стеснительность. Но стоило мне ласково ему кивнуть, как он решился подойти ко мне. «Застенчивый ребенок, но не капризный», – решил я.
Минуту спустя малыш уже стоял на ковре на коленях и обнимал Санчо за шею. А еще минуту спустя водворился на колени ко мне и с большим интересом рассматривал рисунки лошадей, коров и свиней всевозможных пород, а также планы образцовых ферм, заполнявшие страницы моего журнала. Иногда я косился на его мать, стараясь угадать, как она отнесется к этой новой дружбе, и вскоре заметил по ее тревожному взгляду, что ей почему-то не нравится развлечение, которое нашел ее сын.
– Артур! – позвала она наконец. – Поди сюда. Ты мешаешь мистеру Маркхему. Он хочет читать.
– Вовсе нет, сударыня, разрешите ему остаться здесь. Мне это не менее интересно, чем ему, – попросил я, но она взглядом и жестом все-таки подозвала его к себе.
– Ну-у, мамочка! – возразил мальчик. – Позволь, я еще посмотрю картинки. А потом я тебе все про них расскажу!
– В понедельник, пятого ноября, мы думаем устроить небольшой вечер, – сказала матушка, – и я надеюсь, миссис Грэхем, вы не откажетесь быть нашей гостьей. И, пожалуйста, приводите своего сынка, мы найдем для него какие-нибудь интересные занятия… А вы тогда сможете сами извиниться перед Уилсонами и Миллуордами. Я полагаю, они все придут.
– Благодарю вас, но я не бываю на званых вечерах.
– Что вы! Какой же это званый вечер! Соберемся почти по-семейному – кроме нас, будут только Миллуорды и Уилсоны, а с ними вы уже знакомы, да еще мистер Лоренс, ваш домохозяин, а уж с ним вам просто надо познакомиться.
– Мы немножко знакомы… Но все-таки вы должны меня извинить. Вечера теперь сырые и темные, и я побаиваюсь за Артура – здоровье у него не такое уж крепкое. Нам придется подождать, пока дни не станут длиннее, а вечера теплее.
Роза, повинуясь кивку матушки, достала из шкафчика графин вина, рюмки и кекс и предложила это угощение нашим гостям. Кекса они поели, но от вина миссис Грэхем отказалась наотрез, несмотря на все радушные настояния. Артур смотрел на рубиновый нектар с каким-то ужасом и чуть не расплакался, когда матушка заметила, что пригубить-то винцо он должен!
– Успокойся, Артур, – сказала его мать. – Миссис Маркхем просто полагает, что оно будет тебе полезно, потому что ты утомился. Но заставлять тебя она и не думает! И конечно, пить его тебе не следует. Он не выносит даже вида вина, – добавила она. – А от запаха ему становится почти дурно. Дело в том, что прежде, когда он заболевал, я давала ему выпить вместе с лекарством немного вина или разбавленного водой коньяка и сумела внушить ему к ним отвращение!
Мы все засмеялись, но молодая вдова и ее сын не присоединились к нам.
– Что же, миссис Грэхем! – сказала матушка, утирая слезы, которые от смеха выступили на ее ясных голубых глазах. – Вы меня, признаться, удивили. Право, я полагала, что вы благоразумнее. Что за неженку вы из него растите! Только представьте, каким он станет, если вы и дальше…
– О нет, я считаю, что выбрала верный путь, – с невозмутимой серьезностью перебила ее миссис Грэхем. – Таким способом я надеюсь спасти его хотя бы от одного из самых омерзительных пороков. И была бы рада найти способ возбудить в нем такую же ненависть ко всем прочим.
– Но так вы никогда не пробудите в нем ни единой добродетели, миссис Грэхем, – заметил я. – Ведь в чем их суть? В умении и желании противиться соблазну? Или в неведении соблазна? Кто силен? Тот, кто преодолевает препятствия и совершает что-либо полезное благодаря усилиям и ценой усталости? Или тот, кто посиживает весь день в кресле, вставая, только чтобы помешать в камине и перекусить? Если вы хотите, чтобы ваш сын прошел по жизни с достоинством, не старайтесь убирать камни у него из-под ног, но научите не спотыкаться о них, не водите его за руку, а дайте ему привыкнуть ходить одному.
– Я буду водить его за руку, мистер Маркхем, пока он не станет настолько сильным, чтобы обходиться без меня. И уберу с его дороги столько камней, сколько сумею, а остальных научу избегать – или не спотыкаться о них, как вы выразились. Ведь сколько бы я ни убирала камней, их останется вполне достаточно, чтобы ловкость, решимость и осторожность нашли для себя применение. Очень легко рассуждать об испытании добродетели и благородном сопротивлении соблазнам, но покажите мне на пятьдесят… на пятьсот мужчин, уступивших искушению, хотя бы одного, у кого достало добродетельности ему воспротивиться. Так почему же я должна утешаться мыслью, что мой сын явится исключением из тысячи и тысяч, вместо того, чтобы приготовиться к худшему, к тому, что он окажется таким же, как его… как все прочие люди, если я заранее не приму решительных мер?
– Хорошего же вы мнения о всех нас! – воскликнул я.
– О вас мне ничего не известно, и говорю я только о тех, кого знаю, и когда я вижу, как весь род мужской – за немногими исключениями – бредет по жизненному пути, спотыкаясь, падая в каждую яму, ломая ноги о каждый камень, неужели у меня нет права сделать все, что в моих силах, чтобы его путь был более ровным и безопасным?
– О, безусловно. Но для этого надо сделать так, чтобы он был сильнее соблазнов, а не прятать их от него.
– Одно не мешает другому, мистер Маркхем. Бог свидетель, у него будет достаточно искушений и изнутри и извне после того, как я постараюсь сделать для него пороки столь же малопривлекательными, как омерзительна их природа. То, что свет зовет пороком, самой мне никогда не представлялось заманчивым, но я знавала иные искушения и испытания, которые во многих случаях требовали больше осмотрительности и твердости, чтобы им противостоять, чем мне удавалось найти в себе. И я убеждена, что в том же самом могли бы признаться почти все те, кто привык размышлять о себе и стремится властвовать над своими дурными склонностями.
– Да-да! – согласилась матушка, которая не поняла и половины. – Но нам не следует судить о мальчиках по себе. И, моя дорогая миссис Грэхем, позвольте предостеречь вас против ошибки – роковой ошибки, поверьте мне! Ни в коем случае не берите на себя его воспитание и образование! Оттого что в чем-то вы разбираетесь очень хорошо и сами образованны, вас может прельстить мысль, будто такая задача вам по силам. Но это не так, и если вы не отступите от своего намерения, поверьте мне, вам придется горько раскаяться, когда будет уже поздно.
– Видимо, мой долг – отдать его в школу, чтобы он научился презирать власть и любовь своей матери! – заметила наша гостья с довольно горькой улыбкой.
– Да что вы! Но если какая-нибудь мать хочет, чтобы сын ее презирал, то пусть она держит его дома, балует и не жалеет себя, лишь бы исполнять его капризы.
– Я совершенно с вами согласна, миссис Маркхем. Но подобная преступная слабость противна и моим принципам, и моему поведению!
– Так вы же обращаетесь с ним как с девочкой, вы изнежите его, сделаете из него маменькиного сыночка. Да-да, миссис Грэхем, так оно и будет, хотите вы того или нет! Но я попрошу мистера Миллуорда побеседовать с вами об этом. Он сумеет лучше меня растолковать вам, к каким это приведет последствиям. Яснее ясного. И даст совет, что вам делать и как. Уж он-то вас в одну минуту убедит.
– К чему затруднять мистера Миллуорда! – ответила миссис Грэхем, поглядывая на меня (вероятно, я не сдержал улыбки, слушая, как матушка превозносит почтенного священника). – Мне кажется, мистер Маркхем полагает, что умением убеждать он по меньшей мере не уступает преподобному джентльмену. И готов вам сказать, что уж если я его не послушала, то останусь Фомой Неверным, кто бы меня ни уговаривал. Скажите, мистер Маркхем, вы – тот, кто утверждает, что мальчика следует не ограждать от зла, но посылать сражаться с ним в одиночестве и без помощи, не учить его избегать ловушек жизни, но смело бросаться в них или перешагивать через них, как уж там у него получится, не уклоняться от опасностей, но искать их и питать свою добродетель соблазнами, так скажите же…
– Простите меня, миссис Грэхем, но вы слишком торопитесь! Я ведь пока не говорил, что мальчика следует толкать в ловушки жизни или учить его искать соблазны ради того, чтобы, преодолевая их, закалять свою добродетель. Я только утверждаю, что лучше укрепить силы юного героя и вооружить его, чем пытаться ослабить и разоружить его врага; что, взращивая дубок в теплице, преданно ухаживая за ним днем и ночью, защищая его от малейшего дуновения ветерка, вы не можете надеяться, что он станет таким же крепким и могучим, как дуб, выросший на горном склоне, открытом буйству всех стихий, и изведавший даже бури.
– Предположим. Но пустили бы вы в ход те же доводы, если бы речь шла о девочке?
– Разумеется, нет.
– О да, вот ее, вы считаете, нужно холить и нежить, как оранжерейный цветок, учить цепляться за других ради защиты и поддержки и всячески оберегать от каких бы то ни было понятий о зле! Но не будете ли вы так любезны и не объясните ли мне, почему вы проводите такое различие? Или, по-вашему, ей природная добродетель несвойственна?
– Конечно, ничего подобного я не считаю!
– Однако, с одной стороны, вы утверждаете, что добродетель пробуждают только соблазны, а с другой – считаете, что все меры хороши, лишь бы женщина как можно меньше подвергалась соблазнам и ничего не ведала ни о пороке, ни обо всем, к нему относящемся. Таким образом, по вашему мнению, женщина от природы настолько порочна или слабоумна, что попросту не способна противостоять соблазну, и остается чистой и невинной только до тех пор, пока ее держат в неведении и под строгой опекой, но стоит лишь показать ей путь греха, как она, лишенная по своей натуре подлинной добродетели, тут же устремится по нему, и чем больше будет ее осведомленность, чем шире свобода, тем ниже она падет. Сильный же пол наделен естественной склонностью к добродетели, высоким благородством, которое только укрепляется благодаря опасностям и испытаниям…
– Упаси меня Бог от таких мыслей! – вскричал я.
– В таком случае вы полагаете, что оба пола равно слабы и склонны ошибаться, однако малейшее соприкосновение с пороком, малейшая тень тут же навеки погубит женщину, тогда как характер мужчины только укрепится и обогатится – кое-какое практическое знакомство со вкусом запретного плода является достойным и необходимым завершением его воспитания. Подобное обогащение для него будет (прибегая к банальному сравнению) тем же, чем для дуба – налетевшая на него буря, которая, хотя и сорвет с него часть листьев и обломает мелкие веточки, лишь укрепит его корни, закалит фибры ствола и могучих ветвей. Вы полагаете, что нам следует поощрять наших сыновей познавать все на собственном опыте, а нашим дочерям возбраняется извлекать пользу даже из чужого опыта. Я же хочу, чтобы и те и другие благодаря чужому опыту и привитым с детства высоким принципам заранее научились отвергать зло и выбирать добро, обходясь без практических доказательств того, чем чреваты уклонения с праведного пути. Нет, я бы не послала бедную девочку в мир не вооруженной против врагов, не ведающей о расставленных ей ловушках, но и не стала бы так охранять и беречь ее, что она, не научившись самоуважению и умению полагаться на себя, потеряла бы способность и охоту самой себя беречь и остерегаться опасностей. А что до моего сына… Если бы я поверила, что он вырастет человеком, как вы выражаетесь, «знающим жизнь» и гордым своим опытом, пусть даже потому, что опыт этот в конце концов отрезвил его и сделал полезным и уважаемым членом общества – если бы я поверила в подобное, то предпочла бы, чтобы он умер завтра же! В тысячу раз предпочла бы! – докончила она страстно и, крепко прижав сына к сердцу, поцеловала его с неизъяснимой нежностью. (Мальчик уже давно оторвался от журнала и стоял возле матери, заглядывая ей в лицо и в безмолвном недоумении слушая ее непонятные слова.)









