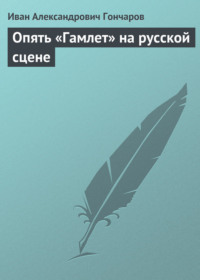полная версия
полная версияФрегат «Паллада»
Оно гибло безответно. Носовая его часть опустилась: печальная картина, как картина всякой агонии!
В этот же день, недалеко от этого корабля, мы увидели еще несколько точек вдали и услышали крик. В трубу разглядели лодки; подвигаясь ближе, различили явственнее человеческие голоса. «Рыбаки, должно быть», – сказал капитан. «Нет, – возразил отец Аввакум, – слышите, вопли! Это, вероятно, погибающие просят о помощи: нельзя ли поворотить?» Капитан был убежден в противном; но, чтоб не брать греха на душу, велел держать на рыбаков. Ему, однако ж, не очень нравилось терять время по-пустому: военным судам разгуливать по морю некогда. «Если это, – ворчал он, – рыбаки кричат, предлагают рыбу… Приготовить брандспойты!» – приказал он вахтенному (брандспойты – пожарные трубы). Матросам велено было набрать воды и держать трубы наготове. Черные точки между тем превратились в лодки. Вот видны и люди, которые, стоя в них, вопят так, что, я думаю, в Голландии слышно.
Подходим ближе – люди протягивают к нам руки, умоляя – купить рыбы. Велено держать вплоть к лодкам. «Брандспойты!» – закричал вахтенный, и рыбакам задан был обильный душ, к несказанному удовольствию наших матросов, и рыбаков тоже, потому что и они засмеялись вместе с нами.
Впрочем, напрасно капитан дорожил так временем. Мы рассчитывали 20-го, 21-го октября прийти в Портсмут, а пробыли в Немецком море столько, что имели бы время сворачивать и держать на каждого рыбака, которого только завидим. Задул постоянный противный ветер и десять дней не пускал войти в Английский канал. «Что ж вы делали десять дней?» – спросите вы. Вам трудно представить себе, когда час езды между Петербургом и Крондштадтом наводит скуку. Да, несколько часов пробыть на море скучно, а несколько недель – ничего, потому что несколько недель уже есть капитал, который можно употребить в дело, тогда как из нескольких часов ничего не сделаешь.
Впрочем, у нас были и развлечения: появились касатки, или морские свиньи.
Они презабавно прыгали через волны, показывая черные толстые хребты. По вечерам, наклонясь над бортом, мы любовались сверкающими в пучине фосфорическими искрами мелких животных.
Идучи Балтийским морем, мы обедали почти роскошно. Припасы были свежие, повар отличный. Но лишь только задул противный ветер, стали опасаться, что он задержит нас долго в море, и решили беречь свежие припасы. Опасение это оправдалось вполне. Оставалось миль триста до Портсмута: можно бы промахнуть это пространство в один день, а мы носились по морю десять дней, и все по одной линии. «Где мы?» – спросишь, проснувшись, утром у деда. «В море», – говорит он сердито. «Я знаю это и без вас, – еще сердитее отвечаете вы, – да на котором же месте?» – «Вон, взгляните, разве не видите? Все там же, где были и вчера: у Галлоперского маяка». – «А теперь куда идем»? – «Куда и вчера ходили: к Доггерской банке». Банка эта мелка относительно общей глубины моря, но имеет достаточную глубину для больших кораблей. На ней не только безопасно, но даже волнение не так чувствительно. На ней стараются особенно держаться голландские рыбачьи суда. «Ну что, подвигаемся?» – спросите потом вечером у деда, общего оракула. «Как же, отлично: крутой бейдевинд: семь с половиной узлов хода». – «Да подвигаемся ли вперед?» – спрашиваете вы с нетерпением.
«Разумеется, вперед: к Галлоперскому маяку, – отвечает дед, – уж, чай, и виден!» Вследствие этого на столе чаще стала появляться солонина; состаревшиеся от морских треволнений куры и утки и поросята, выросшие до степени свиней, поступили в число тонких блюд. Даже пресную воду стали выдавать по порциям: сначала по две, потом по одной кружке в день на человека, только для питья. Умываться предложено было морской водой, или не умываться, ad libitum. Скажу вам по секрету, что Фаддеев изловчился как-то обманывать бдительность Терентьева, трюмного унтер-офицера, и из-под носа у него таскал из систерн каждое утро по кувшину воды мне на умыванье.
«Достал, – говорил он радостно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту, – на вот, ваше высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце рожу вытереть!» (ей-богу, не лгу!). Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом Богом просил других не учить Фаддеева, как обращаться со мною. Так удавалось ему дня три, но однажды он воротился с пустым кувшином, ерошил рукой затылок, чесал спину и чему-то хохотал, хотя сквозь смех проглядывала некоторая принужденность. «Э! леший, черт, какую затрещину дал!» – сказал он наконец, гладя то спину, то голову. «Кто, за что?» – «Терентьев, черт эдакой! увидал, сволочь! Я зачерпнул воды-то, уж и на трап пошел, а он откуда-то и подвернулся, вырвал кувшин, вылил воду назад да как треснет по затылку, я на трап, а он сзади вдогонку лопарем по спине съездил!» И опять засмеялся.
Я уж писал вам, как радовала Фаддеева всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь, полученный толчок, даже им самим, как в настоящем случае.
Главный надзор за трюмом поручен был П. А. Тихменеву, о котором я упомянул выше. Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он ни оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. Он, по общему выбору, распоряжался хозяйством кают-компании, и вот тут-то встречалось множество поводов обязать того, другого, вспомнить, что один любит такое-то блюдо, а другой не любит и т. п. Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим, но большею частью выходил из затруднений победителем. А иногда его брал задор: все это подавало постоянный повод к бесчисленным сценам, которые развлекали нас не только между Галлоперским маяком и Доггерской банкой, но и в тропиках, и под экватором, на всех четырех океанах, и развлекают до сих пор. Например, он заметит, что кто-нибудь не ест супу. «Отчего вы не едите супу?» – спросит он. «Так, не хочется», – отвечают ему. «Нет, вы скажите откровенно», – настаивает он, мучимый опасением, чтобы не обвинили его в небрежности или неуменье, пуще всего в неуменье исполнять свою обязанность. Он был до крайности щекотлив. «Да, право, я не хочу: так что-то…» – «Нет, верно, нехорош суп: недаром вы не едите. Скажите, пожалуйста!» Наконец тот решается сказать что-нибудь. «Да, что-то сегодня не вкусен суп…» Он не успел еще договорить, как кроткий Петр Александрович свирепеет. «А чем он нехорош, позвольте спросить? – вдруг спрашивает он в негодовании, – сам покупал провизию, старался угодить – и вот награда! Чем нехорош суп?» – «Нет, я ничего, право…» – начинает тот. «Нет, извольте сказать, чем он нехорош, я требую этого, – продолжает он, окидывая всех взглядом, – двадцать человек обедают, никто слова не говорит, вы один только… Господа, я спрашиваю вас – чем нехорош суп? Я, кажется, прилагаю все старания, – говорит он со слезами в голосе и с пафосом, – общество удостоило меня доверия, надеюсь, никто до сих пор не был против этого, что я блистательно оправдывал это доверие; я дорожу оказанною мне доверенностью…» – и так продолжает, пока дружно не захохочут все и наконец он сам. Иногда на другом конце заведут стороной, вполголоса, разговор, что вот зелень не свежа, да и дорога, что кто-нибудь будто был на берегу и видел лучше, дешевле. «Что вы там шепчете, позвольте спросить?» – строго спросит он. «Вам что за дело?» – «Может быть, что-нибудь насчет стола, находите, что это нехорошо, дорого, так снимите с меня эту обязанность: я ценю ваше доверие, но если я мог возбудить подозрения, недостойные вас и меня, то я готов отказаться…» Он даже встанет, положит салфетку, но общий хохот опять усадит его на место.
Избалованный общим вниманием и участием, а может быть и баловень дома, он любил иногда привередничать. Начнет охать, вздыхать, жаловаться на небывалый недуг или утомление от своих обязанностей и требует утешений.
«Витул, Витул! – томно кличет он, отходя ко сну, своего вестового. – Я так устал сегодня: раздень меня да уложи». Раздеванье сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. «Завтра на вахту рано вставать, – говорит он, вздыхая, – подложи еще подушку, повыше, да постой, не уходи, я, может быть, что-нибудь вздумаю!» Вот к нему-то я и обратился с просьбою, нельзя ли мне отпускать по кружке пресной воды на умыванье, потому-де, что мыло не распускается в морской воде, что я не моряк, к морскому образу жизни не привык, и, следовательно, на меня, казалось бы, строгость эта распространяться не должна. «Вы знаете, – начал он, взяв меня за руки, – как я вас уважаю и как дорожу вашим расположением: да, вы не сомневаетесь в этом?» – настойчиво допытывался он. «Нет», – с чувством подтвердил я, в надежде, что он станет давать мне пресную воду. «Поверьте, – продолжал он, – что если б я среди моря умирал от жажды, я бы отдал вам последний стакан: вы верите этому?» – «Да», – уже нерешительно отвечал я, начиная подозревать, что не получу воды. «Верьте этому, – продолжал он, – но мне больно, совестно, я готов – ах, Боже мой! зачем это… Вы, может быть, подумаете, что я не желаю, не хочу… (и он пролил поток синонимов). Нет, не не хочу я, а не могу, не приказано. Поверьте, если б я имел хоть малейшую возможность, то, конечно, надеюсь, вы не сомневаетесь…» И повторил свой монолог. «Ну, нечего делать: le devoir avant tout, – сказал я, – я не думал, что это так строго». Но ему жаль было отказать совсем. «Вы говорите, что Фаддеев таскал воду тихонько», – сказал он. «Да». – «Так я его за это на бак отправлю». – «Вам мало кажется, что его Терентьев попотчевал лопарем, – заметил я, – вы еще хотите прибавить? Притом я сказал вам это по доверенности, вы не имеете права…» – «Правда, правда, нет, это я так… Знаете что, – перебил он, – пусть он продолжает потихоньку таскать по кувшину, только, ради Бога, не больше кувшина: если его Терентьев и поймает, так что ж ему за важность, что лопарем ударит или затрещину даст: ведь это не всякий день…» – «А если Терентьев скажет вам, или вы сами поймаете, тогда…» – «Отправлю на бак!» – со вздохом прибавил Петр Александрович.
Уж я теперь забыл, продолжал ли Фаддеев делать экспедиции в трюм для добывания мне пресной воды, забыл даже, как мы провели остальные пять дней странствования между маяком и банкой; помню только, что однажды, засидевшись долго в каюте, я вышел часов в пять после обеда на палубу – и вдруг близехонько увидел длинный, скалистый берег и пустые зеленые равнины.
Я взглядом спросил кого-то: что это? «Англия», – отвечали мне. Я присоединился к толпе и молча, с другими, стал пристально смотреть на скалы. От берега прямо к нам шла шлюпка; долго кувыркалась она в волнах, наконец пристала к борту. На палубе показался низенький, приземистый человек в синей куртке, в синих панталонах. Это был лоцман, вызванный для провода фрегата по каналу.
Между двух холмов лепилась куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы набегавших на берег бурунов: к вершинам холмов прилипло облако тумана. «Что это такое?» – спросил я лоцмана. «Dover», – каркнул он. Я оглянулся налево: там рисовался неясно сизый, неровный и крутой берег Франции. Ночью мы бросили якорь на Спитгедском рейде, между островом Вайтом и крепостными стенами Портсмута.
Июнь 1854 года.
На шкуне «Восток», в Татарском проливе.
* * *
Здесь прилагаю два письма к вам, которые я не послал из Англии, в надежде, что со временем успею дополнить их наблюдениями над тем, что видел и слышал в Англии, и привести все в систематический порядок, чтобы представить вам удовлетворительный результат двухмесячного пребывания нашего в Англии. Теперь вижу, что этого сделать не в состоянии, и потому посылаю эти письма без перемены, как они есть. Удовольствуйтесь беглыми заметками, не о стране, не о силах и богатстве ее; не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции – стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту; прочим же, в том числе и мне, может быть позволено только разве говорить о своих впечатлениях.
ПИСЬМО 1-е
20 ноября / 2 декабря 1852 года.
Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из Дании, где, впрочем, я не был, а писал его во время стоянки на якоре в Зунде. Тогда я был болен и всячески расстроен: все это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не желал бы: ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения, иногда, может быть, фальшивым, и идти путем догадок там, где темно. Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения: все это подавлено рядом опытов, более или менее трудных, новых, иногда не совсем занимательных, вероятно, потому, что для многих из них нужен запас свежести взгляда и большей впечатлительности: в известные лета жизнь начинает отказывать человеку во многих приманках, на том основании, на каком скупая мать отказывает в деньгах выделенному сыну.
Так, например, я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и оттого, что я еще не видал ни «безмолвного», ни «лазурного» моря и, кроме холода, бури и сырости, ничего не знаю. Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, зачем я уехал? Сначала мне, как школьнику, придется сказать: «Не знаю», а потом, подумав, скажу: «А зачем бы я остался?» Да позвольте: уехал ли я? откуда? из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы, зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д.? Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, «домашнего очага», как говорили в старых романах? Тот уезжает, у кого есть все это. А прочие век свой живут на станциях. Поэтому я только и выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы, волнения морского плавания: они могли бы остановить. Как будто их нет или меньше на берегу? А отчего же, откуда эти вечные жалобы на жизнь, эти вздохи? Если нет крупных бед или внешних заметных волнений, зато сколько невидимых, но острых игл вонзается в человека среди сложной и шумной жизни в толпе, при ежедневных стычках «с ближним»! Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь? Вот здесь нет сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей. Пружины, двигающие этим, ржавеют на море вместе с железом, сталью и многим другим. Зато тут другие двигатели не дают дремать организму: бури, лишения, опасности, ужас, может быть, отчаяние, наконец следует смерть, которая везде следует; здесь только быстрее, нежели где-нибудь. Видите ли: я имел причины ехать или не имел причины оставаться – все равно. Теперь нужно только спросить: к чему же этот ряд новых опытов выпал на долю человека, не имеющего запаса свежести и большей впечатлительности, который не может ни с успехом воспользоваться ими, ни оценить, который даже просто устал выносить их? Вот к этому я не могу прибрать ключа; не знаю, что будет дальше: может быть, он найдется сам собою.
Поэтому я уехал из отечества покойно, без сердечного трепета и с совершенно сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря «о петербургской станции», умолчал о дружбе, которой одной было бы довольно, чтоб удержать человека на месте.
Дружба, как бы она ни была сильна, едва ли удержит кого-нибудь от путешествия. Только любовникам позволительно плакать и рваться от тоски, прощаясь, потому что там другие двигатели: кровь и нервы; оттого и боль в разлуке. Дружба вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании.
Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется, таком определенном, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться; о дружбе еще не решили ничего определительного и, кажется, долго не решат, так что до некоторой степени каждому позволительно составить самому себе идею и определение этого чувства. Чаще всего называют дружбу бескорыстным чувством; но настоящее понятие о ней до того затерялось в людском обществе, что такое определение сделалось общим местом, под которым собственно не знают, что надо разуметь. Многие постоянно ведут какой-то арифметический счет – вроде приходо-расходной памятной книжки – своим заслугам и заслугам друга; справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой географии и астрономии или Аристотелевой риторики; все еще ищут, нет ли чего вроде пиладова подвига, ссылаясь на любовь, имеющую в ежегодных календарях свои статистические таблицы помешательств, отравлений и других несчастных случаев. Когда захотят похвастаться другом, как хвастаются китайским сервизом или дорогою собольей шубой, то говорят: «Это истинный друг», даже выставляют цифру XV, XX, XXX-летний друг и таким образом жалуют друг другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Напротив того, про «неистинного» друга говорят: «Этот приходит только есть да пить, а мы не знаем, каков он на деле». Это у многих называется «бескорыстною» дружбой.
Что это, проклятие дружбы? непонимание или непризнание ее прав и обязанностей? Боже меня сохрани! Я только исключил бы слово «обязанности» из чувства дружбы, да и слово «дружба» – тоже. Первое звучит как-то официально, а второе пошло. Разберите на досуге, отчего смешно не в шутку назвать известные отношения мужчины к женщине любовью, а мужчины к мужчине дружбой. Порядочные люди прибегают в этих случаях к перифразам. Обветшали эти названия, скажете вы. А чувства не обветшали: отчего же обветшали слова? И что за дружба такая, что за друг? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выручит из беды по обязанности, а не по влечению. Не лучше ли, когда порядочные люди называют друг друга просто Семеном Семеновичем или Васильем Васильевичем, не одолжив друг друга ни разу, разве ненарочно, случайно, не ожидая ничего один от другого, живут десятки лет, не неся тяжеcти уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и, наслаждаясь друг другом, если можно, бессознательно, если нельзя, то как можно менее заметно, как наслаждаются прекрасным небом, чудесным климатом в такой стране, где дает это природа без всякой платы, где этого нельзя ни дать нарочно, ни отнять? Мудрено ли, что при таких понятиях я уехал от вас с сухими глазами, чему немало способствовало еще и то, что, уезжая надолго и далеко, покидаешь кучу надоевших до крайности лиц, занятий, стен и едешь, как я ехал, в новые, чудесные миры, в существование которых плохо верится, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда должны прийти в Индию, когда в Китай, и уверяет, что он был везде по три раза.
Декабрь. Лондон.
Как я обрадовался вашим письмам – и обрадовался бескорыстно! в них нет ни одной новости, и не могло быть: в какие-нибудь два месяца не могло ничего случиться; даже никто из знакомых не успел выехать из города или приехать туда. Пожалуйста, не пишите мне, что началась опера, что на сцене появилась новая французская пьеса, что открылось такое-то общественное увеселительное место: мне хочется забыть физиономию петербургского общества. Я уехал отчасти затем, чтобы отделаться от однообразия, а оно будет преследовать меня повсюду. Сам я только что собрался обещать вам – не писать об Англии, а вы требуете, чтоб я писал, сердитесь, что до сих пор не сказал о ней ни слова. Странная претензия! Ужели вам не наскучило слушать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии?
Прикажете повторить, что туннель под Темзой очень… не знаю, что сказать о нем: скажу – бесполезен, что церковь Св. Павла изящна и громадна, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити и т. д. Не надо этого: не правда ли, вы все это знаете?
Пишите, говорите вы, так, как будто мы ничего не знаем. Пожалуй; но ведь это выйдет вот что: «Англия страна дикая, населена варварами, которые питаются полусырым мясом, запивая его спиртом; говорят гортанными звуками; осенью и зимой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу; они угрюмы, молчаливы, мало сообщительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеются, важничают, по утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам, одиноко, и напиваются порознь; в будни собираются, говорят длинные речи и напиваются сообща». Это описание достойно времен кошихинских, скажете вы, и будете правы, как и я буду прав, сказав, что об Англии и англичанах мне писать нечего, разве вскользь, говоря о себе, когда придется к слову.
Через день, по приходе в Портсмут, фрегат втянули в гавань и ввели в док, а людей перевели на «Кемпердоун» – старый корабль, стоящий в порте праздно и назначенный для временного помещения команд. Там поселились и мы, то есть туда перевезли наши пожитки, а сами мы разъехались. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмут и вот теперь воротился сюда.
Долго не изгладятся из памяти те впечатления, которые кладет на человека новое место. На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных, или как будто человек не только глазами и ушами, но легкими и порами вбирает в себя впечатления, напитывается ими, как воздухом. От этого до сих пор памятна мне эта тесная кучка красных, желтых и белых домиков, стоящих будто в воде, когда мы «втягивались» в портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных нивами полей, точно разлинованных страниц, когда ехал я из Портсмута в Лондон. Жаль только (на этот раз), что везут с неимоверною быстротою: хижины, фермы, города, замки мелькают, как писаные. Погода странная – декабрь, а тепло: вчера была гроза; там вдруг пахнет холодом, даже послышится запах мороза, а на другой день в пальто нельзя ходить.
Дождей вдоволь; но на это никто не обращает ни малейшего внимания, скорее обращают его, когда проглянет солнце. Зелень очень зелена, даже зеленее, говорят, нежели летом: тогда она желтая. Нужды нет, что декабрь, а в полях работают, собирают овощи – нельзя рассмотреть с дороги – какие. Туманы бывают если не каждый день, то через день непременно; можно бы, пожалуй, нажить сплин; но они не русские, а я не англичанин: что же мне терпеть в чужом пиру похмелье? Довольно и того, что я, по милости их, два раза ходил смотреть Темзу и оба раза видел только непроницаемый пар. Я отчаялся уже и видеть реку, но дохнул ветерок, и Темза явилась во всем своем некрасивом наряде, обстроенная кирпичными неопрятными зданиями, задавленная судами.
Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой улице, управляемая меркуриевым жезлом!
Не забуду также картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющейся путешественнику, когда он подъезжает к нему вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов, над изящными пропастями, где, как в калейдоскопе, между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц движется муравейник.
Но вот я наконец, озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовою неподвижностью в вагоне и получасовою ездою в кебе по городу, водворен в доме, в квартире.
На другой день, когда я вышел на улицу, я был в большом недоумении: надо было начать путешествовать в чужой стороне, а я еще не решил как. Меня выручила из недоумения процессия похорон Веллингтона. Весь Лондон преисполнен одной мысли; не знаю, был ли он полон того чувства, которое выражалось в газетах. Но decorum печали был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки – сомнения нет: он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа. До пяти или до шести часов я нехотя купался в этой толпе, тщетно стараясь добраться до какого-нибудь берега. Поток увлекал меня из улицы в улицу, с площади на площадь. Никого знакомых со мной не было – не до меня: все заняты похоронами, всех поглотила процессия. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь Св. Павла, где совершалась церемония. Я был один в этом океане и нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своею обычною жизнью.
Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай: праздничную сторону народа и столицы, но я ждал не того; я видел это у себя; мне улыбался завтрашний, будничный день. Мне хотелось путешествовать не официально, не приехать и «осматривать», а жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности; не задавая себе утомительных уроков осматривать ежедневно, с гидом в руках, по стольку-то улиц, музеев, зданий, церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго.