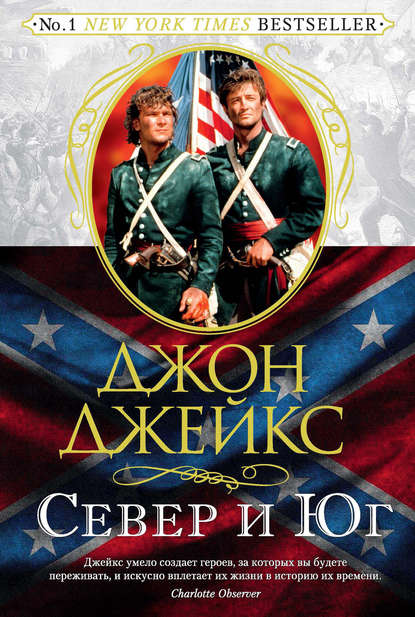Полная версия
Рай и ад. Великая сага. Книга 3
Нервничая, Уилла положила подписанные листы на плюшевое кресло. Сверху пристроила перчатки, на них – шаль и шляпку. Все это она сложила аккуратной стопкой, чтобы в случае чего можно было быстро схватить. Еще в двенадцать лет в ней стала проявляться женская привлекательность, и вскоре уже многие мужчины, служившие в театре, начали заглядываться на ее красоту. Уилла научилась держать их на расстоянии с помощью незлобных шуток, хотя порой требовалась и физическая сила. Спасаться бегством приходилось довольно часто, и она стала в этом большим специалистом.
Вуд подошел к двери и закрыл ее:
– Итак, моя дорогая. Первый акт, сцена седьмая.
– Но мы ее репетировали вчера.
– Я недоволен. – Он повернулся к девушке. – Замок Макбета. – Он с усмешкой протянул руку и медленно провел ладонью по ее шелковому рукаву. – Начинаем со слов леди Макбет, где она говорит: «Кормила я».
Последние слова он произнес с явным наслаждением. Свет упал на его влажную нижнюю губу. Уилла старалась подавить страх и грустное отчаяние. Теперь было совершенно очевидно, слишком очевидно, что Вуд все это время желал ее, что только поэтому предложил ей роль, для которой больше подходили актрисы постарше. Именно на это туманно намекала миссис Дрю, вместо того чтобы сказать напрямую. Такое внимание ничуть не льстило девушке, а только расстраивало ее. Если такой была цена за дебют в Нью-Йорке, то и черт с ним – она не станет платить.
– Начинай, – повторил Вуд хриплым голосом, насторожившим ее, и снова погладил девушку по руке.
Она попыталась отодвинуться, но он сразу шагнул следом, обдавая ее запахом бурбона.
– «Кормила я и знаю…» – Уилла сбилась, – «что за счастье держать в руках сосущее дитя…»
– А ты и вправду знаешь? – Он наклонился и поцеловал ее в шею.
– Мистер Вуд!..
– Продолжай!
Он схватил девушку за плечи, встряхнул, и тут ее охватил леденящий ужас. В черных глазах Вуда она увидела нечто большее, чем просто гнев. Она увидела желание причинять боль.
– «Но если б я дала такое слово, как ты, – клянусь, я вырвала б сосок из мягких десен…»
Ладонь Вуда скользнула с ее руки к левой груди и сжала ее.
– Но из моего рта ты не стала бы его вырывать, ведь так?
Уилла топнула высоким зашнурованным ботинком:
– Послушайте, я актриса! Я не желаю, чтобы со мной обращались как с уличной девкой!
Вуд схватил ее за руку:
– Я плачу тебе жалованье. И ты будешь тем, кем я велю тебе быть. Моей шлюхой в том числе.
– Нет! – огрызнулась Уилла, вырывая руку.
Вуд замахнулся и ударил ее кулаком в лицо. Девушка упала.
– Ах ты, тварь белобрысая! Ты дашь мне то, чего я хочу! – Левой рукой он схватил Уиллу за волосы, заставив закричать от боли, и тут же ударил правым кулаком в плечо, потом еще раз. – Ясно тебе?
– Отпустите меня! Вы пьяны! Сумасшедший!
– Заткнись! – Он залепил ей пощечину, такую сильную, что Уилла отлетела назад и ударилась головой о письменный стол. – Подними юбку!
В глазах Уиллы плясали искры. Голова раскалывалась от боли. Она протянула руку, пытаясь нащупать какой-нибудь тяжелый предмет на столе.
– Подними юбку, черт тебя подери, или я так тебя изобью, что ходить не сможешь!
Замирая от страха, Уилла вдруг наткнулась пальцами на что-то твердое – бутафорский кинжал. Вуд потянулся к ее запястью, но схватить не успел. Девушка внезапно размахнулась и ударила его. Хотя кинжал был тупым, он порвал клетчатую ткань его штанов, потому что Уилла вложила в этот удар всю силу. Она почувствовала, как кинжал уткнулся в тело, замер на секунду, а потом погрузился в него.
– Боже… – выдохнул Вуд, двумя руками схватился за кинжал, который на пару дюймов воткнулся в его левое бедро, и выдернул клинок, залив пальцы кровью. – Боже правый! Да я убью тебя!
Не помня себя от ужаса, Уилла отпихнула его обеими руками, Вуд опрокинулся набок. Он орал и ругался, грохнувшись на искусственную пальму в горшке. Уилла бросилась к креслу, схватила свои вещи и, выбежав из кабинета, помчалась по темным коридорам. У двери она кое-как справилась с засовом и чуть не упала в залитый дождем переулок, ожидая услышать позади топот его ног.
Я (такой-то), перед лицом Господа Всемогущего, торжественно клянусь, что с этого момента и впредь буду преданно поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов и союз штатов, а также поддерживать и соблюдать все законы и манифесты, касающиеся освобождения рабов и выпущенные во время мятежа. И да поможет мне Бог!
Клятва, которую были обязаны дать все бывшие конфедераты, просившие помилования у президента, 1865 год
Глава 3
– Я должен дать такую клятву? – спросил Купер Мэйн.
Он специально проехал верхом до самой Колумбии, чтобы решить этот вопрос, и теперь внезапно засомневался.
– Если вам нужно помилование, – кивнул адвокат Трезевант, сидевший по другую сторону хлипкого столика, заменявшего ему письменный стол.
Его контора сгорела во время большого пожара семнадцатого февраля, и пока он арендовал комнату в похоронном бюро Реверди Бёрда в восточной части города, которую пламя пощадило. Самое большое помещение мистер Бёрд переделал под магазин, где продавал пробковые ноги, деревянные костыли и стеклянные глаза для искалеченных ветеранов. Гул голосов в лавке говорил о бойкой торговле этим утром.
Купер уставился на рукописный текст клятвы. В давно не стриженных волосах этого долговязого человека было уже полно седины, хотя ему едва исполнилось сорок пять. От скудной пищи он стал еще более худым, чем был раньше, а от тяжелой работы по шестнадцать часов кряду под глубоко посаженными глазами залегли темные круги. Все свои силы Купер посвящал тому, что восстанавливал склады и причалы «Каролинской морской компании», чтобы она снова начала свою работу в Чарльстоне.
– Слушайте, я понимаю ваше негодование, – сказал Трезевант, – но если сам генерал Ли унизился до принятия этой клятвы, а он это сделал на прошлой неделе в Ричмонде, то и вы сможете.
– Милуют за какое-то преступление, а я не сделал ничего плохого.
– Я-то с вами согласен, Купер. А вот федеральное правительство, к несчастью, нет. Так что, если вы хотите возродить свое дело, вам придется освободить себя от бремени, вызванного вашей службой в военно-морском министерстве Конфедерации. – Купер что-то невнятно проворчал, и Трезевант продолжил: – Я сам ездил в Вашингтон и, в известной степени, могу доверять этому агенту по делам помилования, хотя он и адвокат, да к тому же янки. – Это было произнесено с горьким юмором. – Зовут его Джаспер Диллс. Его жадность дает мне уверенность в том, что ваше прошение попадет к помощнику мистера Джонсона по делам помилования раньше многих других.
– И за сколько?
– За двести долларов США или за их эквивалент в фунтах стерлингов. Мой гонорар – пятьдесят долларов.
Купер немного подумал:
– Хорошо, давайте бумаги.
Они проговорили еще полчаса. Трезевант рассказал последние вашингтонские сплетни. По слухам, Джонсон собирался назначить временного губернатора Южной Каролины, которому предстояло созвать конституционный конвент и восстановить легислатуру штата в том виде, в каком она существовала до падения форта Самтер. Выбор Джонсона оказался вполне предсказуемым. Это был судья Бенджамин Франклин Перри из Гринвилла, открытый юнионист до войны. Как и генерал Ли, Перри заявил о своей преданности родному штату, несмотря на ненависть к сецессии, и провозгласил: «Все вы ка́титесь к дьяволу – ну и я с вами».
– Для восстановления своей работы легислатуре придется выполнить все требования мистера Джонсона, – сказал Трезевант. – Например, официально отменить рабство. – (Хитрый взгляд юриста насторожил Купера, тот явно припас что-то еще.) – Но в то же время они смогут… э-э… управлять черными, чтобы у нас снова появилась рабочая сила, а не ленивый сброд.
– Как управлять?
– С помощью… ну, назовем это правилами поведения. Насколько я знаю, в Миссисипи сейчас подумывают о том же самом.
– Эти правила будут обязательными и для белых тоже?
– Нет, только для бывших рабов.
Купер понимал всю опасность такого провокационного шага, но моральная сторона его не волновала. Окончание войны принесло ему, его семье и всему штату сполна унижения и разрухи. Его больше не заботило, как будут жить люди, ответственные за это, – те, кому война принесла свободу.
Стоял жаркий июньский полдень. Старая кляча Купера медленно тащилась на юго-восток. На обратном пути к дому ему снова пришлось проехать через центр Колумбии. Он едва мог вынести это зрелище. В городе выгорело почти сто двадцать кварталов. В воздухе до сих пор висел густой запах обугленного дерева.
Грязные улицы были засыпаны мусором и обломками мебели. Из фургона, принадлежавшего Бюро по делам освобожденных, раздавали пакеты с рисом и мукой толпе, которая состояла в основном из чернокожих. Другие негры толпились на небольших отрезках уцелевших дощатых тротуаров. Купер увидел людей в военной форме и нескольких джентльменов в штатском, а вот ни одной хорошо одетой белой женщины не заметил. Так было везде. Такие женщины сидели по домам, потому что ненавидели солдат и боялись свободных негров. Его жена Юдифь была редким исключением, и это раздражало Купера.
Деревянный мост через реку Конгари разрушила армия генерала Шермана. Остались лишь каменные опоры, которые торчали из воды, как закопченные могильные плиты. С неспешного парома Купер смог хорошо разглядеть одно из немногих городских зданий, обойденных огнем, – недостроенную ратушу на восточном берегу. В одной из гранитных стен, словно жирные точки на листе бумаги, зияли три дыры от шермановских снарядов.
Это зрелище вызвало у Купера гнев. Как и вид сожженного заречного района, куда он добрался вскоре после того, как сошел с парома. Он ехал вдоль полосы выгоревшей земли шириной в три четверти мили. Здесь, между пылающими соснами, мародерствовала кавалерия Килпатрика, оставив за собой черную пустошь с одиноко торчащими печными трубами. Часовые Шермана – так их прозвали, и это было единственным, что сохранилось от домов, оказавшихся на пути того варварского похода.
На ночь Купер остановился в каком-то захудалом трактире за городом. В харчевне он избегал разговоров, но сам внимательно прислушивался к тому, что говорили доведенные до нищеты фермеры, потягивающие пиво вокруг него. Из их реплик можно было решить, что Юг выиграл войну или, по крайней мере, уж точно мог продолжать борьбу за свое дело.
Утром он поехал дальше; в воздухе висела жаркая дымка, обещавшая очередное беспощадное лето в их краю. Купер ехал по размытым дорогам, которые никто не ремонтировал после того, как их разбили союзные обозы. Любому фермеру понадобилась бы крепкая новая повозка, чтобы преодолеть восьмидюймовые рытвины в песчаной почве и довезти до рынка свой урожай, если бы урожай был, конечно. Вот только едва ли этот фермер сможет найти сейчас новую повозку или денег на ее покупку, со злостью подумал Купер.
Направляясь к Чарльстону и побережью, он пересек железнодорожную насыпь. Все рельсы исчезли, да и шпал почти не осталось. Белых он по дороге не встречал, зато дважды видел группы негров, шедших через поля. Сразу за деревушкой племени чикора, по дороге к реке Купер, Мэйн наткнулся на десяток чернокожих мужчин и женщин, собиравших на обочине дикие травы. Он сунул руку в карман старого сюртука и сжал рукоятку маленького пистолета, который купил специально для этой поездки.
Негры молча наблюдали за ним. На одной из женщин было красное бархатное платье с приколотой к груди овальной камеей. Купер подумал, что все это она, вероятно, украла у какой-нибудь белой госпожи. Остальные были в лохмотьях. Купер взмок и еще крепче сжал пистолет в кармане, однако никто из них не шевелился.
Когда он проехал мимо, здоровенный негр в повязанном на голову красном платке вдруг выступил на дорогу за его спиной.
– Вы тут больше не главный, ясно вам? – громко сказал он.
Купер обернулся и уставился на негра:
– А с чего ты взял, что я им был? Почему бы вам всем не найти работу и не сделать что-нибудь полезное?
– Не надо нам работы, – ответила женщина в красном платье. – Вы нас не заставите и бить больше не сможете. Так-то вот. Мы теперь свободны!
– Свободны растратить свою жизнь в праздности. Свободны забывать своих друзей.
– Друзей? Это вроде вас, что ли? Тех, что в цепях нас держали? – ухмыльнулся негр с банданой на голове. – Езжайте-ка вы дальше, мистер, пока мы вас не стащили с вашей лошаденки и не наградили тем, что раньше сами получали от таких, как вы.
Стиснув зубы, Купер выхватил пистолет и направил его на негра. Женщина в бархатном платье взвизгнула и прыгнула в канаву. Остальные бросились врассыпную, кроме здоровяка в красном платке, который решительно шагнул к лошади Купера. И тут наконец Купер опомнился, ударил пятками несчастную клячу и поехал вперед.
Еще минут десять его била нервная дрожь. Да, Трезевант был прав. Законодатели должны что-то сделать, чтобы упорядочить поведение освобожденных рабов. Свобода превращалась в анархию. К тому же без рабочих рук Южная Каролина, с ее жарким и влажным климатом, может скоро перейти от тяжкой болезни к смерти.
Позже, уже успокоившись, он начал думать о том, что нужно сделать для возрождения пароходной компании. К счастью, дополнительное бремя забот о Монт-Роял на его плечах не висело. Врожденная порядочность и благородство привели его к решению заключить договор с вдовой Орри, и теперь она полностью отвечала за плантацию, которой он владел на правах собственности согласно отцовскому завещанию. В Мадлен текла смешанная кровь, о чем все уже знали благодаря стараниям Эштон. Однако никто не заговаривал о ее происхождении и не заговорит впредь, если она будет вести себя как достойная белая женщина.
Грустные воспоминания о младших сестрах отвлекли Купера от мыслей о работе. Словно наяву он увидел перед собой их лица. Бретт вышла замуж за янки Билли Хазарда, и теперь, как она написала ему в своем последнем письме, они с мужем уехали в Калифорнию. Эштон связалась с какими-то заговорщиками, которые вынашивали нелепый план по смещению правительства Дэвиса, намереваясь поставить вместо него кучку каких-то хулиганов. Сестра пропала где-то на западе, и Купер точно не знал, жива ли она. Он не мог заставить себя сильно горевать о ней и не чувствовал себя виноватым. Эштон, с ее сложным характером, свойственным, вероятно, всем женщинам, обладающим большой красотой и большим самомнением, всегда вызывала в нем досаду и раздражение. А ее безнравственность была просто отвратительна.
Солнце опустилось к песчаным холмам за его спиной; дорога шла уже вдоль поблескивающих солончаков, до дому оставалось совсем немного. Как же он любил Южную Каролину, особенно побережье! Трагическая гибель сына превратила Купера в настоящего патриота, хотя он по-прежнему считал себя человеком умеренных взглядов во всех вопросах, кроме одного – наследственного превосходства белой расы и ее предназначения для управления обществом. Уже минут через десять ему предстояло встретиться с человеком, который ставил преданность Югу превыше всего, что только можно вообразить.
Звали его Дезмонд Ламотт. Выглядел он довольно нелепо. Когда он ехал на своем муле через солончаки вдоль берега реки Купер, его ноги свисали почти до самой земли. Руки тоже были непомерно длинными. В курчавых волосах цвета моркови блестела неожиданная белая прядь – отметина прошедшей войны. Еще он носил аккуратно подстриженную эспаньолку такого же цвета, как волосы.
Происходил он из старого гугенотского рода, имеющего большое влияние среди местной аристократии. Девичья фамилия его покойной матери была Хугер – эта гугенотская фамилия произносилась как «Юги». Почти всех молодых мужчин в обеих семьях унесла война.
Родился Дез в Чарльстоне в 1834 году. К пятнадцати годам он уже вытянулся до шести футов четырех дюймов. Когда он растопыривал пальцы, расстояние от мизинца до большого пальца составляло десять дюймов, а ступня выросла до тринадцати. Так что было вполне естественно, что он, как любой упрямый и своевольный молодой человек с подобными физическими данными, решил стать учителем танцев.
Люди подняли его на смех. Но он был полон решимости и в конце концов преуспел. Это была старая и уважаемая профессия, особенно на Юге. Лицемерам Новой Англии священники всегда старались внушить отвращение к танцам, все равно к каким – будь то веселые пляски в корчмах, вокруг майского дерева, что вообще преподносилось как языческий ритуал, или любые другие танцы рядом с едой и выпивкой. Южане имели более просвещенные взгляды благодаря своей высокой культуре, духовному родству с английскими джентри, а также экономической системе – рабовладение давало им достаточно свободного времени, чтобы учиться танцевать. Вашингтон и Джефферсон – великие люди, великие южане, на взгляд Дезмонда, – были весьма неравнодушны к танцам.
С самых ранних лет что бы он ни делал – скакал верхом, фехтовал на рапире или лениво метал с детьми свободных негров Чарльстона подковы, – Дез Ламотт проявлял гибкость, необычную для любого мальчика и удивительную для того, кто рос так же стремительно, как он. Заметив эту его особенность, а также считая, что любой джентльмен обязан уметь танцевать, родители начали его учить уже с одиннадцати лет. Дез на всю жизнь запомнил суровые слова своего первого учителя танцев и позже повторял их уже собственным ученикам:
Школа танцев – это место не для развлечения, а для обучения. После хорошего обучения вы не просто станете прекрасными танцорами, но и прекрасными сыновьями и дочерьми, замечательными мужьями и женами, порядочными гражданами и добрыми христианами.
За пять лет до войны Дезмонд удачно и счастливо женился на мисс Салли Сью Минс из Чарльстона, открыл школу на Кинг-стрит, а также по три раза в год давал выездные уроки в семьях плантаторов побережья, всегда заранее сообщая в местных газетах о своем приезде. Недостатка в учениках он никогда не испытывал. Еще он немного учил мальчиков фехтованию, но в основном это были танцы – традиционная кадриль и шотландский рил, в котором пары выстраиваются в линию, не компрометируя себя слишком близким физическим контактом. Обучал он и более современным танцам из Европы – вальсу и польке, когда партнеры стоят лицом друг к другу, что многими рассматривалось уже как опасная близость. Один из епископальных священников Чарльстона в своих проповедях яростно повторял, что это мерзко, когда женщина позволяет мужчине, который ей не муж и даже не жених, обнимать себя за талию. Дез только смеялся. Он считал все танцы нравственными, потому что таковыми были и он сам, и его ученики.
Те пять лет, пока он преподавал, пользуясь стандартным руководством Рамбо «Учитель танцев», истрепанный экземпляр которого сейчас лежал в его седельной сумке, были просто волшебными. Несмотря на аболиционистов и угрозу войны, Ламотт проводил роскошные балы и приемы на плантациях, с наслаждением глядя на то, как красивые белые мужчины и женщины танцуют в свете свечей с семи вечера до трех-четырех утра, уже едва дыша от усталости. Венцом всего стал блистательный зимний сезон в Чарльстоне и большой бал в престижном Обществе святой Сесилии.
Знания Дезмонда о танцах были широки и разнообразны. Он видел, как двое мужчин танцевали на доске, поставленной между двумя бочками, пока один из них не падал. Наблюдал уходящие корнями в Африку танцы рабов, когда негры выделывали замысловатые коленца под аккомпанемент трещоток, сделанных из костей какого-нибудь животного, или скрежещущих железок, скрепленных вместе. Плантаторы обычно запрещали рабам пользоваться барабанами, так как опасались, что с их помощью негры смогут передать друг другу тайные сигналы с призывами к бунтам или поджогам.
Дезмонд давно мечтал приобрести портрет Томаса Д. Райса, великого белого актера, который в начале века восхищал публику выступлениями в образе своего чернокожего персонажа Джима Кроу. От каролинцев, побывавших на Севере, он слышал рассказы о скандально известных «трясущихся квакерах» и об экстатических танцах негритянских любовников, ставших танцами целого религиозного направления. Во время богослужения квакеры сначала вставали рядами друг против друга и, ставя одну ногу перед другой, совершали медленные вздрагивающие движения, призывая таким образом трепетать перед Господом и получить путь к спасению; а потом, образовывая три или более концентрических круга один в другом, поворачивались в противоположных направлениях, что должно было в их представлении изображать мироздание. Дез знал всю вселенную американского танца, хотя своим ученикам говорил, что любит только те, которым их учит.
Его вселенная разбилась с первым пушечным выстрелом по форту Самтер. Дез сразу записался в «Стрелки Пальметто», отряд, созданный его лучшим другом капитаном Феррисом Бриксхэмом. Из восьмидесяти человек, вступивших туда в самом начале, в апреле этого года в живых осталось лишь трое, после того как генерал Джо Джонстон окружил остатки армии конфедератов возле Дарем-Стейшн в Северной Каролине. В ночь перед капитуляцией какой-то сержант-янки с четырьмя своими солдатами схватили Деза и Ферриса, когда те искали пропитание, и жестоко избили их до потери сознания. Дез выжил, Феррис умер у него на руках через час после того, как офицеры сообщили о капитуляции. У Ферриса остались жена и пятеро маленьких детей.
Озлобленный, Дез Ламотт вернулся в Чарльстон, где его восьмидесятипятилетний дядя сообщил, что Салли Сью умерла в январе от пневмонии и постоянного недоедания. И как будто всего этого было недостаточно, весь род Ламоттов еще и опозорили члены другой семьи, жившей на берегах Эшли. Этого Дез уже не смог вынести и очень серьезно заболел. Почти целый месяц он провел как в бреду и ничего не мог вспомнить из того времени. Ухаживали за ним пожилые родственники.
И вот теперь он ехал на муле через солончаки, надеясь найти своих старых клиентов из прошлого или людей, кто мог в это тяжелое время позволить себе оплатить уроки для своих детей. Но никого не нашел. За ним ковылял его босой пятидесятилетний слуга, страдающий от артрита негр Джуба; у рабов это имя означало «музыкант». После войны Дез подписал с Джубой пожизненный контракт о персональной службе. Джуба был до смерти напуган новообретенной свободой, обрушенной на него легендарным Линкумом, и с готовностью поставил крестик на бумаге, которую не мог прочитать.
Джуба шагал в лучах солнца, положив одну руку на круп мула, на котором ехал человек, одержимый только двумя стремлениями: снова вернуться к любимой профессии, отнятой у него янки, и отомстить любому из тех, кто был виноват в его бедах, бедах его семьи и его родины.
С этим человеком и предстояло встретиться Куперу Мэйну.
Через впадину в солончаке лежал настил из желтых сосновых досок шириной тридцать дюймов, иначе здесь было ни пройти, ни проехать. Когда Купер заехал на него и продвинулся немного вперед, на другой стороне показался какой-то несуразный тип верхом на муле, в сопровождении угрюмого чернокожего раба.
На сухом холмике, футах в двадцати от переправы, лежал аллигатор, греясь на солнышке. Аллигаторов в прибрежных солончаках хватало. Этот был взрослым – двенадцать футов в длину и весом фунтов пятьсот. Потревоженный людьми, он скользнул в воду и затаился, только глаза без век торчали над водой, выдавая его медленное продвижение в сторону настила. Иногда аллигаторы могли быть опасными, если чувствовали сильный голод или угрозу от другого животного или от человека.
Купер его заметил. Он боялся аллигаторов, хотя видел их с самого детства. Иногда в ночных кошмарах ему снились их челюсти с длинными рядами зубов. Глаза подплыли ближе, Купер вздрогнул, но они вдруг погрузились под воду, и аллигатор уплыл прочь.
Молодой мужчина с рыжей эспаньолкой показался Куперу смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где его видел. Вдруг он услышал с другого конца настила громкий голос:
– Уступите дорогу!
Раздраженный жарой, Купер начал было:
– Не вижу причины…
– Повторяю, сэр, уступите дорогу.
– Нет, сэр. Вы дерзки и самоуверенны, и я вас не знаю.
– Зато я вас знаю, сэр. – В глазах мужчины горел сдерживаемый гнев, но голос звучал спокойно, даже любезно, и это несоответствие заставило Купера занервничать. – Вы мистер Купер Мэйн, из Чарльстона. «Каролинская морская компания», плантация Монт-Роял. Мое имя Дезмонд Ламотт, сэр.
– Ах да… Учитель танцев. – С этими словами Купер решительно пустил клячу дальше по настилу.
Это вызвало эффект спички, брошенной в сухую траву. Дез тут же погнал своего мула вперед. Копыта гулко застучали по дереву. Мул испугал лошадь Купера, она шарахнулась в сторону и упала. Купер извернулся в воздухе, чтобы его не раздавило ее весом, и плюхнулся в мелководье рядом с ней, потом кое-как поднялся, целый, но весь измазанный в скользком иле.