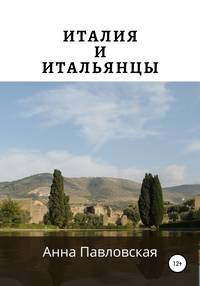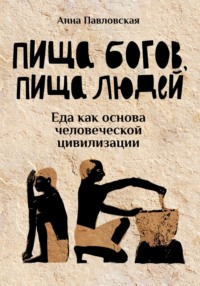Полная версия
Русский мир. Часть 1
Заселяя новые земли, русские переселенцы преображали те места, где селились. Они приносили туда свои навыки и умения, прокладывали дороги (пусть и печально знаменитые, но ведь не было никаких), ставили деревни и города по берегам рек, сеяли хлеб, разводили скот, занимались теми видами деятельности, которые были незнакомы в новых местах, или делали это все по-другому. Восхищался этим свойством русского человека А. И. Герцен, писавший об освоении Сибири: «…горсть казаков и несколько обездоленных мужиков перешли на свой страх океаны льда и снега, и везде, оседали усталые кучки, в мерзлых степях, забытых природой, кипела жизнь, поля покрывались нивами и стадами, и это от Перми до Тихого океана»68.
Другая эпоха и другие края – советский период в Киргизии. Пришедшие в те края русские оценили прекрасный теплый климат и засадили республику плодоносными садами. Скотоводы и кочевники, киргизы сами не имели привычки и навыка садоводства, но высоко оценили это нововведение и охотно ухаживали за посадками. Труд, старание, умение, климат привели к тому, что эти пустынные, порой засушливые места были превращены в цветущий край. Сегодня только небольшие клочки посадок напоминают о былом великолепии, с уходом русских из независимой теперь страны сады исчезли.
Переделка и благоустройство новых земель касались не только сельскохозяйственной деятельности. Строились дома, возводились города, причем все это, независимо от местоположения, принимало знакомые формы. Местный фактор, конечно, учитывался – климат, сейсмологическая ситуация, географическое положение, но принципы градостроительства, видоизменяясь, оставались прежними. Привносились и принципы общественного устройства, система администрирования, социальные отношения.
В каждом конкретном случае преобразования были направлены на оптимальное использование местных условий. А. С. Пушкин, путешествуя по Северному Кавказу, не переставал удивляться переменам: «Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость…»69 Стереотип о бесхозяйственности и лености русских разбивается об историческую реальность.
Впрочем, освоение и преобразование земель для любой колонизации – вещь обычная и естественная. Удивительно другое. Русские переселенцы преображали жизнь местного населения. Причем, это была отнюдь не насильственная «русификация», как это нередко представляют, а именно воздействие, обучение, передача навыков и знаний. А вот уже усвоение новых принципов жизни и труда вело к изменениям в быте и взглядах, создавало единство не только русского населения в стране, но и вообще всех граждан государства.
И. А. Гончаров подробно описал в своих записках о путешествии по Сибири, как постепенно сельское хозяйство проникало в Якутию. «Местами поселенцы не нахвалятся урожаем. Кто эти поселенцы? Русские. Они вызываются или переводятся за проступки из-за Байкала или с Лены и селятся по нескольку семейств на новых местах. Казна не только дает им средства на первое обзаведение лошадей, рогатого скота, но и поддерживает их постоянно, отпуская по два пуда в месяц хлеба на мужчину и по пуду на женщин и детей. Я видел поселенцев по рекам Мае и Алдану: они нанимают тунгусов и якутов обрабатывать землю. Те сначала не хотели трудиться, предпочитая есть конину, белок, древесную кору, всякую дрянь, а поработавши год и поевши ячменной похлебки с маслом, на другой год пришли за работой сами»70.
«Теперь же, – пишет Гончаров, – многие якуты сами занимаются земледелием». Он описывает увиденное им под Якутском богатое хозяйство, которое вела якутская семья, ставшая состоятельной на торговле зерном. «Поля, пестреющие хлебом» своим изобилием напомнили ему Волжские берега.
С теми же местами связано и еще одно интересное явление, характерное для русской колонизации новых земель. В новые места русские несли просвещение и образование. Причем, хотя в большой степени это было связано с деятельностью духовных лиц, не всегда исключительно в форме религиозного миссионерства. Показательна в этом смысле жизнь и деяния Иннокентия Вениаминова (1797–1879), епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Еще в начале своей бурной деятельности Иннокентий был отправлен миссионером на Алеутские острова, на которых прожил 10 лет. За это время он выучил алеутский язык, создал алеутскую письменность, составил алеутский букварь и грамматику, перевел Евангелие, которое он распространял между местными жителями, переписывая от руки. Позже, находясь на Аляске, он осуществил перевод Евангелия на язык местных индейцев – колошей. Традиционное представление об исконном невежестве и нежелании коренных народов Севера учиться Иннокентий, хорошо изучивший обычаи и психологию алеутов, решительно опровергал. Житие святителя Иннокентия рассказывает: «Трудно описать ту радость, с которой встретили алеуты переводы на их язык этих книг! Почти все они с усердием начали учиться грамоте. Нередко было можно встретить за этим занятием седых стариков и женщин»71. Заметим, кстати, что созданная русским миссионером-просветителем письменность прекратила свое существование в 1868 г. после перехода островов во владение США. Хотя православная традиция в тех местах уцелела, и многие индейцы Аляски до сих пор носят русские имена и посещают православную церковь.
Деятельность Иннокентия продолжалась по возвращении его в Сибирь. Он переводил священные книги на местные языки (кадьяков, эвенков (тунгусов), якутов и др.), составлял азбуки, открывал школы. Яркая незаурядная личность (он был канонизирован в 1977 г. после обращения к русской православной церкви представителей американской православной церкви), он сделал на удивление много для просвещения народов Севера, их христианизации и распространения образования. Причем никогда не связывал вопросы веры с распространением знаний, учиться могли и необращенные. Но было много и других (тот же Гончаров упоминает первую грамматику якутского языка, составленную Д. Хитровым), и не только лиц духовного звания. Много образованных людей было среди ссыльных поселенцев, они также нередко занимались обучением местных ребятишек. Это не говоря уже об общегосударственной политике, старавшейся распространять образование по стране более или менее равномерно (первый сибирский университет, основанный в 1878 г., – Томский – был девятым в России). Нельзя не упомянуть и географию первых российских университетов, открытых вслед за Московским: Дерптский (1802, Эстония), Виленский (1803, Литва), Казанский (1804), Харьковский (1804, Украина), Петербургский (1819), Киевский (1834, Украина). Больше половины сегодня оказалось заграницей!
Государственная политика играла далеко не последнюю роль в создании общероссийского единства, это был процесс не только стихийный, возникавший по мере переселения людей, но и целенаправленный, поддерживаемый государством. Это ярко проявилось в сфере образования. Государственная светская система образования в России складывается в XVIII в. и сразу ставит во главу угла принцип единства. Программы, учебники, требования – все разрабатывается в едином ключе для большой страны. Конечно, принимаются во внимание и местные особенности. Так, в XIX в. в гимназиях центральных районов обязательными для изучения языками являются французский и немецкий, в Архангельской губернии – английский, в южных губерниях – греческий, а в Иркутской – китайский. Но общим направлением было единство образовательной системы.
В советский период эта традиция еще более окрепла. Министерство образования, находившееся в Москве, твердо регулировало образовательный процесс в самых удаленных точках Советского Союза. Иностранцы удивлялись и иронизировали: «Ученица 5 класса может в середине учебного года переехать из Москвы в Новосибирск, пойти там в школу и не заметить перемены. Ученики 5 класса в Новосибирске будут проходить те же уроки, что и в Москве, читать те же учебники, и даже темы будут совпадать»72. И это было действительно так. Не только единая программа для всех, но даже одинаковая привязка к датам, одни и те же контрольные работы в одинаковые сроки – таков был порядок.
За последние 15 лет ситуация несколько изменилась. Свобода и сопровождающий ее некий хаос (чего только стоит постоянная реорганизация бывшего Министерства образования, где уж тут заниматься вопросами управления образованием) привели к тому, что образовательное единство в стране ослабло. Учебным заведениям на местах была предоставлена возможность самим выбирать отдельные дисциплины и учебные материалы. Результат был предсказуемый – растерянность и снижение качества образования. Сегодня многие учителя в региональных школах скучают без единого учебного плана, программ и учебников, чувствуя себя беспомощными перед лицом огромной информационной и книжной лавины современности.
Государственная политика, направленная на создание единства разных регионов огромной страны, как уже отмечалось, вместе с тем довольно гибко учитывала и местные особенности, если этого требовал здравый смысл и благополучие региона. Так, Гончаров сообщает интересный факт, касающийся продажи алкоголя на Крайнем Севере. Приведем его рассказ полностью: «А вина нет нигде на расстоянии тысячи двухсот верст. Там, где край тесно населен, где народ обуздывается от порока отношениями подчиненности, строгостью общего мнения и добрыми примерами, там свободное употребление вина не испортит большинства в народе. А здесь – в этом молодом крае, где все меры и действия правительства клонятся к тому, чтобы с огромным русским семейством слить горсть иноплеменных детей, диких младенцев человечества, для которых пока правильный, систематический труд – мучительная, лишняя новизна, которые требуют осторожного и постепенного воспитания, – здесь вино погубило бы эту горсть, как оно погубило диких в Америке. Винный откуп, по направлению к Охотскому морю, нейдет далее ворот Якутска. В этой мере начальства кроется глубокий расчет – и… русский, самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно»73.
В 1971 г. XXIV съезд КПСС провозгласил появление «советского народа», который понимался как «новая историческая, социальная и интернациональная общность людей, имеющих единую территорию, экономику, единую по социалистическому содержанию и многообразную по национальным особенностям культуру, федеративное государство и общую цель – построение коммунизма». Конституция СССР 1977 г. подтвердила тот факт, что в стране «сложилась новая историческая общность людей – советский народ»74.
Сегодня многие воспринимают эти фразы с усмешкой как заблуждения (сознательные или нет) советской эпохи. Вместе с тем единство и унификация народов действительно достигли к концу существования советского государства значительных размеров. Одинаковые дома, одежда, продукты питания, школы, книги, мебель, утренники в детских садах – все это было реальностью в тот период. Тогда же это было удачно высмеяно в популярном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»: герой, попав в чужую квартиру в чужом городе, никак не может найти «трех отличий», проходит много времени, пока он осознает свою ошибку. Замечали это единообразие и сторонние наблюдатели. Так, известный итальянский журналист Луиджи Бардзини в середине 1960-х гг. посмеивался над группами, приезжавшими на экскурсии из Советского Союза. «Русские туристы, – писал он, – все носят одинаковые мешкообразные одежды, такие новенькие, как бывают у провинциальных молодоженов, и одинаковые плащи до пят»75.
Нельзя не упомянуть об одном важном «объединителе» России – русском языке. По мере создания империи, включавшей в себя разные народы, возникала и необходимость в языке международного общения, которым для Российской империи (а позже для Советского Союза и Российской Федерации) стал русский язык. Согласно переписи населения 2002 г., из 145 млн. жителей России 142,5 млн. владеют русским языком. Всего же считается, что, включая население бывших республик и зарубежных стран, на русском языке говорят около 250 млн. (надо еще учесть, принимая во внимание политический аспект проблемы, что не все в этом признаются).
Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что распространение русского языка, за исключением определенного отрезка времени, не было насильственным. Открывались школы на местах, давалась возможность изучить его, но это было делом добровольным. Многим хватало основ, необходимых для того, чтобы объясниться на бытовом уровне. После революции, в 1919 г., был принят декрет, согласно которому в стране вводилось обязательное обучение грамоте «на родном или русском языке по желанию». Только в 1938 г. было принято постановление партии и правительства «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». Изучение русского языка стало обязательным для всех жителей страны. Это не отменило изучения национальных языков, в том числе в некоторых местах сохранились школы, где отдельные предметы велись на родном языке.
С распадом Советского Союза вопрос о русском языке приобрел ярко выраженное политическое звучание. Его стали называть «языком оккупантов», «языком тоталитаризма», «имперским языком». Многие бывшие советские народы стали демонстративно отказываться от его употребления. Вместе с тем хотелось бы отметить, что русский язык в значительной мере остается языком межнационального общения не только в России, но и за ее пределами. Он необходим не только для общения русских и нерусских, но и для установления контактов между различными нерусскими народами. Как иначе армянин поймет таджика, а киргиз грузина, если не с помощью русского языка. Сейчас, особенно среди молодежи, в бывших республиках внедряется английский язык как международный, но для старшего поколения именно русский сохраняет свое значение.
О том, что противостояние русскому языку искусственно и политизировано, свидетельствуют такие данные. В Республике Карелия в последние годы разработана программа по развитию финно-угорской школы. В постановлении Председателя Правительства Республики Карелия (1997) приводятся следующие данные всесоюзной переписи 1989 г.: 51,5% карелов, 40,6% финнов и 37,5% вепсов признали родным язык своего народа. При этом микроперепись, проведенная в рамках республики, выявила, что 82,5% карелов, 90,6% финнов и 75,7% вепсов общаются дома только на русском языке. В постановлении признается, что «использование русского языка в производственной и образовательной сфере практикуется абсолютным большинством»76.
Вместе с языком распространялась и литература, на этом языке написанная. Это породило духовную общность народов России. Пушкин, с его гениальным даром предвидения, писал: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, / И назовет меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгус, и друг степей калмык». Ему не просто было важно показать, что он будет любим в своей стране, но и подчеркнуть ее многонациональный состав, духовно объединяемый русской культурой (даже в большей степени, чем религией, т. к. не все народы приняли христианство, многие сохранили свои традиции). Русские литература и язык являлись и являются важным объединительным фактором не только для разных народов, проживающих в России, но и для самих русских, разбросанных по огромной территории. Жители самых удаленных уголков страны росли и воспитывались на одних книгах, позже фильмах, что не могло не сказаться на единстве взглядов, вкусов, представлений о мире.
Культурное общение и обогащение было взаимным. Об этом написано много исследований. Соседствуя бок о бок, народы России перенимали друг у друга обычаи, традиции, привычки. Очень важно отметить, что они становились не просто заимствованиями одного народа у другого, а неотъемлемой частью некоей единой культуры. И входили в плоть и кровь этой общности. Интересно, что даже те народы, которые живут самостоятельно, но какое-то время находились вместе с Россией, не могут расстаться с некоторыми элементами русского влияния, ставшими составной частью их быта. Финны очень любят соленые огурцы и квас, причем не сладкий газированный напиток, который сейчас выдается за квас в России, а настоящий, приготовленный в домашних условиях, забродивший и выдержанный. Они каждый раз извиняются перед приезжими, в том числе и русскими, за то, что любят такой странный, «никому» не известный, но столь любимый ими напиток.
Итак, единство различных регионов России складывалось стихийно и естественно, по мере заселения земель русскими. Уходя жить в далекие края, они несли с собой свой уклад жизни и бережно хранили его, передавая детям. Они распространяли его и на коренных жителей тех мест, в которых селились, превращая их не просто в покоренные народы, а в некое единое целое, что составляло единое государство. Государство, в свою очередь, своей политикой способствовало этим унифицирующим процессам. Это единство проявлялось в самых разных сферах: культура, язык, быт, образ жизни и, что может быть самое важное, мировоззрение, особенности национального характера.
Это единство было реальностью русской жизни, но не всех и не всегда оно радовало. Некоторые видели в этом обезличивание, потерю индивидуального начала. «Теперь пойдет все сплошь, – жаловался писатель-народник Глеб Успенский, – и сом сплошь прет, целыми тысячами, целыми полчищами, так что его разогнать невозможно, и вобла тоже «сплошь идет» миллионами существ, одна в одну, и народ пойдет тоже «один в один» и до Архангельска, и от Архангельска до «Адесты» [народное название Одессы. – Прим. автора] и от «Адесты» до Камчатки… все теперь пойдет сплошное, одинаковое, точно чеканенное: и поля, и колосья, и земля, и небо, и мужики и бабы, все одно в одно, один в один, с одними сплошными красками, мыслями, костюмами, с одними песнями… Все – сплошное – и сплошная природа, и сплошной обыватель. Сплошная нравственность, сплошная правда, сплошная поэзия, – словом, однородное, стомиллионное племя, живущее какой-то сплошной жизнью, какой-то коллективной мыслью и только в сплошном виде доступное пониманию. Отделить из этой миллионной массы единицу и попробовать понять ее – дело невозможное»77.
Разочарован был поездкой по Волге, от которой ждал новых ярких впечатлений, француз А. Дюма: «Всякий раз, когда “Нахимов” делал стоянку для закупки дров, мы сходили на берег, но места, меняя названия, ничем не отличались одно от другого. Всюду деревянные избы, где обитают крестьяне в красных рубахах и тулупах»78. Он заехал в самую глубинку, ждал чего-то необыкновенного, а нашел то же, что и в ближайших к Петербургу и Москве деревнях. Только общение с людьми, странными, шумными, но очень гостеприимными, скрашивало для него однообразие поездки.
Глубокую связь всех людей, населяющих огромную страну, иронически посмеиваясь, подчеркнул Н. В. Гоголь. Рассказывая о бедствиях русского чиновника в повести «Нос», он не может удержаться от едкого замечания: «Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах».
Его ставшее классическим описание поездки по России дает щемящую картину единения страны, одинаковой не только в своем величии, но в нищете и убожестве. «И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца… Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора». Картина эта не имеет географической привязки, это может быть практически любое место огромной страны.
Русская классическая литература дает несчетное число свидетельств единообразия российской жизни: все эти безвестные, а часто и безымянные (просто город N, а где он находится, не имеет значения) города похожи один на другой, населены похожими людьми, живущими по одним законам и правилам. Чехов, Лесков, Гончаров, Гоголь, Тургенев оставили запоминающиеся зарисовки единообразия (а учитывая критическую направленность русской литературы – и однообразия) русской жизни.
А вот один довольно необычный источник косвенно рисует яркую картину российской действительности – такую пеструю, живую, населенную различными народами и вместе с тем удивительно похожую в самых разных регионах страны. Стремление наблюдателя быть объективным, справедливым, доброжелательным еще нагляднее высвечивает реальную жизнь: единую в своем многообразии. Речь идет о переписке великого князя Александра Николаевича (будущего царя-освободителя Александра II) со своим отцом Николаем I79.
В 1837 г., в возрасте 19 лет, Александр отправился в путешествие по России, которое длилось более 7 месяцев. Эта поездка была частью образовательного плана, составленного для будущего монарха его наставником поэтом В. А. Жуковским и его отцом-императором. К этому моменту Александр завершил обучение, а впереди у него было еще завершающее программу годичное путешествие по Европе. Основную цель поездки Николай I в своем наставлении сыну сформулировал так: «…знакомясь с своим родным краем, сам будешь строго судим». Великий князь и наследник престола отправлялся посмотреть на свою страну, свой народ, других посмотреть, а заодно и себя показать. Николай был уверен, что его сын «научится ценить наш почтенный, добрый русский народ и русскую привязанность», но предостерегал его от неосторожных поступков, напоминал, что всеобщую любовь надо еще и оправдать.
Обращает на себя внимание трогательный, задушевный стиль переписки, который сочетается с глубокой почтительностью со стороны Александра и наставничеством со стороны Николая. За бременем трудных и ответственных обязанностей, лежащих на них как на настоящем и на будущем монархах, проглядывает искренняя семейная любовь и привязанность. Суровый император Николай I, каким его обычно рисует историческая литература, предстает в совершенно неожиданном свете – как нежный и внимательный отец. Сын обращается к отцу: «милый, бесценный Папа» и мечтает о том, как обнимет его при встрече. Отец начинает письма с доброжелательного – «любезный Саша», а подписывает совсем уже ласково – «твой старый верный друг Папа». Они вспоминают милые семейные сценки и шалости, искренне скучают друг по другу, а наследник еще и по остальным членам семьи, оставшимся дома.
В воспитательном смысле поездка имела большое значение для будущего императора. Он все больше осознавал свое предназначение, понимал, что это и большая честь, и трудная обязанность. В одном из первых писем Николай спрашивал сына: «Не чувствуешь ли ты в себе новую силу подвизаться на то дело, на которое Бог тебя предназначил? Не любишь ли отныне еще сильнее нашу славную, добрую Родину, нашу матушку Россию. Люби ее нежно; люби ее с гордостью, что ей принадлежен и родиной называть смеешь». Александр, в свою очередь, все сильнее проникается чувством преданности своей стране и народу. «Меня одушевляет новой силой, – пишет он, – и новым желанием исполнять долг мой, который я считаю для себя самою приятною обязанностью». И позже: «…видя землю Русскую теперь изблизи, более и более привязываюсь к ней, считаю себя счастливым, что Богом предназначен всю жизнь свою ей посвятить».
Наследник выехал из Санкт-Петербурга в мае, а возвратился в декабре. За это время он посетил множество городов. Назовем основные, чтобы показать маршрут путешествия: Новгород, Тверь, Ярославль, Кострома, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Курган, Оренбург, Уральск, Казань, Симбирск, Саратов, Пенза, Тамбов, Воронеж, Тула, Калуга, Рязань, Смоленск, Бородино, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Рязань, Орел, Курск, Харьков, Николаев, Одесса, Севастополь, Алупка, Керчь, Ялта, Киев, Полтава, Бердянск, Таганрог, Новочеркасск. Его письма хорошо передают атмосферу путешествия. Они создают пестрое полотно русской жизни, рассказывают о встречах с разными людьми, о посещении представителей разных народов, населявших страну. В соответствии с заветами отца, наследник старается быть ко всем справедливым и внимательным, воспринимает окружающую его жизнь благосклонно и доброжелательно. А в результате получается картина, в чем-то схожая с гоголевской (которого, кстати, и отец, и сын часто вспоминают). Везде одно и то же: дурные дороги; город, больница, сиротский дом, фабрики; монастыри, службы, мощи; губернатор, бал, гуляния; острог; прошения и просьбы; гимназия, богадельня, училище; смотр войск, армия, лазарет; посещение туземных племен (если таковые есть в регионе).