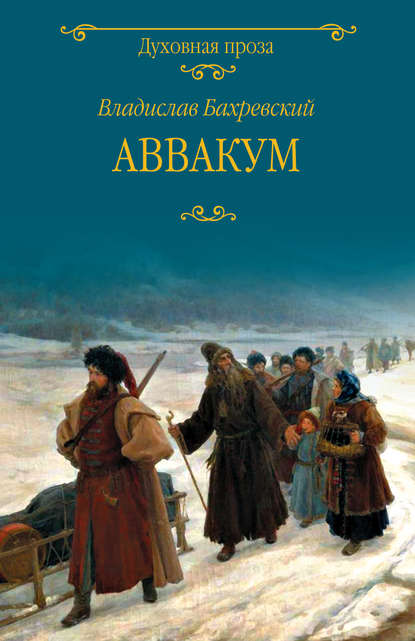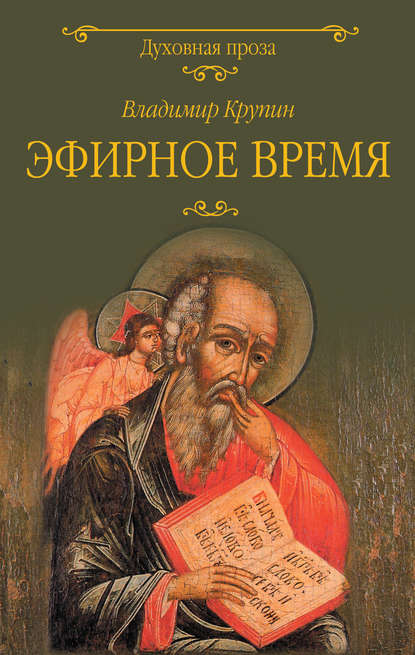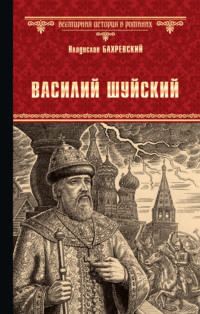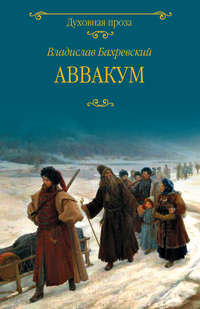Полная версия
Страстотерпцы
– Святейший! – кланялся монашек. – К тебе приехали.
– Кто такой смелый?
– Боярин Зюзин приехал, да от великого государя окольничий Сукин, а с ним дьяк… Брехов.
– Всех-то слуг у царя – Сукин с Бреховым… Пусть ждут. Я пошел в скит, приведи туда боярина Никиту Алексеевича. Да узнай, с чем пожаловали московские голубчики.
– По сыску о деле Сытина.
– Ишь, дело нашли!.. Я пощусь в скиту. На три дня пост. Пусть ждут.
Зюзин заехал в Воскресенский монастырь, возвращаясь из Новгорода. Пришел в скит с мешком, кинул мешок у порога, упал перед святейшим на колени, ожидая благословения.
Никон поднял боярина, благословил.
– Тысячу рублей собрали твои новгородцы, святейший, – сказал Зюзин, указывая на мешок.
– Тысячу…
– Тысячу тридцать три рубля девять алтын и четыре деньги.
– Зачем же ты деньги у порога кинул? Чай, жертвенные.
Зюзин поднял мешок, не зная, куда положить.
– Высыпай на стол.
Деньги, стукаясь, как градины, легли кучею.
– Серебро, – сказал Никон с удовольствием.
– Никакой меди… Новгородцы любят тебя, святейший.
– Помню их любовь. До сих пор косточка в груди болит.
– А мне опять неудача, – вздохнул боярин. – Хлопочу, хлопочу завести поташное дело[53], а всем денег дай.
Никон показал на стол:
– Вот тебе деньги. Бери.
– Эти на храм.
– Ничего, я благословляю.
– Да сколько же?
Никон провел рукою посреди кучи.
– Столько не могу взять! – замотал головой Зюзин.
– Бери сколько можешь.
Зюзин повздыхал, подставил к краю стола мешок, отгреб часть денег, не приближаясь к мете патриарха. Подумал, еще отгреб…
– Спасаешь меня, святейший.
– Нектарий, патриарх Иерусалимский, прислал мне письмо. Не выходит по-цареву. Нектарий умоляет вернуть меня в Москву.
– Стало быть, самое время поддакнуть! Уж я расстараюсь! Алексей без поддаканья ничего сам не сделает… Я знаю, кого послать к нему со словом задушевным. – Кинул на пол мешок. – Упаси меня Боже, не за деньги мои старания. Душа по тебе изболелась, святейший.
Никон сел в кресло.
– Когда-то я много хотел. Теперь одно на уме: Иерусалим достроить, мой Иерусалим… Не дострою, останется русское православье на века без куполов. А кресты-то, Никита Алексеевич, над куполами. Вот о чем моя печаль.
Зюзин стоял опустив голову, встрепенулся.
– Нет, не унываю! Благослови в Москву поспешать.
– Поспешай, друг мой. – Святейший осенил Зюзина крестным знамением. – Все от Бога. Я тут на пустошь одну поглядывал. Вот бы, думал, где Мамврикийскому дубу расти. Все глядел да глядел, а позавчера взял посох, пошел. И что же? Растет. Крошечный дубок, с двумя листами…
– Чудо!
– Да, может, и не чудо… Но растет! И на том самом месте, где душа моя жаждала видеть огромного великана… Спеши, Никита Алексеевич! Спеши. Может, чего и успеем.
Зюзин подхватил мешок, поклонился, убежал.
Вслед за боярином покинул скит и сам святейший. Собирался пойти в монастырь, не гневить попусту царевых слуг, но пошел в другую сторону, в Гефсиманский сад, говоря:
– «И вышед, пошел, по обыкновению, на гору Елеонскую… И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю».
В Иисусовом любимом месте, в Гефсимании, росли плодоносящие маслины. Камень, возле которого Господь молился, был сухим от вечного зноя Палестины.
Здесь тоже сыскался камень, углом выпирал из земли. Камень тускло блестел от влаги, во впадинках его гнездился изумрудный мох.
Вспомнилось, как в Анзерах предался однажды неистовому молению, желал кровавого пота. Старец Елеазар догадался о том, прервал его молитву, послал в море, с сетью. Двенадцать раз закидывал он тогда сеть и поймал всего одну рыбу.
Никон с тоской оглядывал свою Гефсиманию. Деревья – ветлы да черемуха.
– Мир полон Иудами! – сказал себе Никон, думая о сонме бояр, некогда искавших его расположения.
В Иерусалиме в шестидесяти шагах от камня, от места предсмертной духовной борьбы Иисуса Христа, – скала с пещерой, где в ночь предательства спали апостолы. И есть в Гефсиманском саду вертеп с гробом Пресвятой Богородицы. Сего соорудить нельзя, но можно держать в сердце своем.
– Время отступничества, водворение власти тьмы! – Яростно полыхнуло сердце, упал на мокрую землю, отвесил сорок поклонов и по мосткам через поток Кедрон поспешил к лестнице перед Елизаветинской башней.
Сукин и Брехов еще не остыли от негодования – три дня ждать! – когда увидели вдруг перед собою румяного от холодного воздуха, от быстрой ходьбы святейшего.
– Какое дело у великого государя до меня, грешного и ничтожного?
– Ты сам писал государю, сам посылал своего патриаршего, боярского сына Лускина для разбора сытинского дела.
– Сколько времени минуло! – удивился Никон. – Я думал, тому делу конец.
– Был бы конец, да в твоих словах, святейший, много неправды.
– Святейшей неправды, – усмехнулся Никон. – Что ж, спрашивайте.
– Ты писал великому государю, будто ничего не ведаешь о деле и что крестьян его бил батогами иноземец Лускин. Поймал-де он крестьян на озере, побил за то, что рыбу покрали. Но твой малый на допросе показал: когда крестьян привели в монастырь, их били батогами по твоему приказу. Ты посылал Лускина, чтобы учинить суд и розыск, а каков тут суд, если крестьян Сытина били дважды без свидетельства, без разбирательства.
Никон, покряхтывая, ерзал на кресле, не находя удобного положения телу.
– Я писал государю, что не знал про побои крестьян на озере. В монастыре я велел их бить слегка, за их невежество.
– У тебя отговорок много, – сказал Брехов. – Объяви нам, во что священное великий государь вступается, какие неправды чинит над тобою, каких клеветников, врагов Божиих, слушает? И еще объяви, чем великий государь в грех вводит чиновных людей, сидящих в патриаршей Крестовой палате? Там ныне сидят Рязанский архиепископ Иларион да Петр Михайлович Салтыков. Разыскивают, что при твоем патриаршестве из соборной церкви взято и что из монастырей – утвари, книг… Не бойся, не келейной казны ищут, церковные вещи, данные церквам прежними великими князьями да царями, а тобою отнятые.
– Спрашиваете, во что священное царь вступается? Да ведь он всем духовным чином завладел. Прежде чем в попы, в дьяконы кого-либо поставить, архиереи царского указа спрашивают. Государево ли это дело? За свое самоуправство он примет суд от Бога.
– Не с великого государя Бог взыщет, а с тебя, потому что ты престол свой оставил самовольно.
– Я пошел из Москвы от многих неправд и от изгнания. Все те неправды и изгнания были мне от великого государя. Ныне тоже неправды на меня возводят. Накупают многих людей, чтоб патриарха оговаривали. Ко псу святейшего приравнивают, а обороны от государя все нет. Вчера Роман Бабарыкин[54] на меня клеветал, сегодня Иван Сытин[55].
Сукин развел руками.
– Не знаем, кто тебя ко псу приравнивает, ни от кого такого не слыхивали. Кто тебе про то сказывал?
– Всякая тайна откровенна бывает от Бога.
– Разве ты дух прозорливый имеешь?
– Так-таки и есть.
– Как же! – засмеялся Брехов. – Чай, приезжают да лгут ссорщики.
– Да разве это неправда, что келейную мою рухлядь князь Алексей Никитич Трубецкой перебирал да переписывал? Где тут поклеп, если из нее лучшее великий государь себе взял? Не по царскому ли указу Паисий Лигарид сочиняет на меня лжесвидетельства, выписывает и покупает говорунов, чтоб на соборе про мои деяния сказывали злые слова? Пятьсот человек уж накуплено. Иных из Палестины хотят привезти. На то дадено тридцать тысяч серебром. Собору я сам рад. Был бы только праведный, а не накупной.
– Если ты лжесвидетелями называешь власти Московского государства, – сказал Сукин, – то примешь за это месть от Бога.
– Какие власти?! – воскликнул Никон. – Да кто в Москве может книжным учением говорить, правилами святых отцов? Они и грамоте не умеют.
– Один ли ты в Московском государстве грамоте научен? – спросил Брехов. – Есть ли кто другой?
– Есть, да не много.
– Не гордись, святейший. У великого государя изо всяких чинов люди книжным учением и правилами с тобою говорить готовы. Им есть что говорить тебе на беду. – Брехов помолчал и убил: – На соборе будут вселенские патриархи.
Никон не нашелся, что сказать. Сукин и Брехов растерянность святейшего приняли как победу, поскакали в Москву со спешным докладом: испугался!
18Перед праздником Введения Алексей Михайлович любил почитать «Беседу святого Григория Паламы». Царица Мария Ильинична слушала мужа любовно, положа руки на живот, на новое беремя свое.
Читал Алексей Михайлович негромко, наслаждаясь словом, святостью слова:
– «Если древо от плода своего познается и древо доброе плоды добры творит, то Матери Самой Благости и Родительнице Вечной Красоты как не быть несравненно превосходнее, чем всякое благо, находящееся в мире естественном и сверхъестественном?»
Речь лилась, баюкала. Мария Ильинична, ласково вздремывая, улыбалась виновато да и совсем заснула, а пробудясь, увидела Алексея Михайловича, стоящего над книгой, перстом указующего в поразившую его строку.
– Ты послушай, голубушка! Ты послушай!
– Слушаю, Алексей Михайлович.
– Здесь тайна бытия человеческого. Здесь она сокрыта, и не во тьме – в неизреченном свету. «Сиф рожден был Евой, как она сама говорила, вместо Авеля, которого по зависти убил Каин, а Сын Девы, Христос, родился для нас вместо Адама…» Чуешь, Мария Ильинична? Христос вместо Адама, «которого из зависти умертвил виновник и покровитель зла». Ты чуешь? «Но Сиф не воскресил Авеля, ибо он служил лишь прообразом Воскресения, а Господь наш Иисус Христос воскресил Адама, поскольку Он для земнородных есть Жизнь и Воскресение».
Алексей Михайлович подошел к иконостасу, целовал образа, плакал, чувствуя, что сердце в нем открылось, как дверь, и жаждет творить доброе.
Приснился ему в ту ночь Никон. Сидели они друг перед дружкою в блаженстве, любовь была между ними, как встарь. «Господи, друг мой собинный, – говорил Алексей Михайлович и не мог наглядеться на лицо Никона, – как же мы столько прожили вдали друг от друга? Без сладкой беседы, надрывая сердца глупой обидой. Истосковался я по тебе». Святейший Никон, согласно прикрывая глаза, взял серебряную чарочку, зачерпнул из братины и подал. И Алексей Михайлович пил из чарочки, а Никон осушил до дна всю братину. «Ты же пьян будешь!» – испугался за друга царь, а Никон, умалясь в росте, показывал ему за спину. Алексей Михайлович оглянулся, а за спиною, во тьме, мужик. «Кто ты?» – крикнул царь и узнал: Аввакум!
Аввакум молча тащил огромный крест, поставил, а крест выше потолка, толкнул его, чтобы раздавить их…
– Проснись, проснись! Кричишь! – разбудила Алексея Михайловича Мария Ильинична.
Праздник Введения Богородицы во храм – это праздник детской любви к Господу. Праздник чистоты, высоты, безупречного чувства. На утрене со слезами на глазах пел Алексей Михайлович славу Богородице: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое».
В благостное сие мгновение подскакал к государю юродивый Киприан, подал челобитную, щебеча птицей:
– Чвирик-чвирик! От батюшки Аввакума, от протопопа, тобою гонимого. Чвирик-чвирик!
Грамоту царь принял, но уже не молился, не пел. Смутилась, опечалилась душа, уста запечатала.
Челобитие оказалось коротким, без Аввакумова ожесточения, без поучений.
«Помилуй мя, равноапостольный государь-царь, робятишек ради моих умилосердися ко мне! – писал Аввакум. – С великою нуждею доволокся до Колмогор, а в Пустозерский острог до Христова Рождества невозможно стало ехать, потому что путь нужной (мучительный. – В.Б.), на оленях ездят. И смущаюся, грешник, чтоб робятишка на пути не примерли с нужи… Пожалуй меня, богомольца своего, хотя зде, на Колмогорах, изволь мне быть или как твоя государева воля, потому что безответен пред царским твоим величеством. Свет-государь, православный царь! Умилися к странству моему, помилуй изнемогшаго в напастех и всячески уже сокрушена: болезнь бо чад моих на всяк час слез душу мою исполняет. А в даурской стране у меня два сына от нужи умерли. Царь-государь, смилуйся».
Алексей Михайлович перекрестился.
– Небось уж отвезли тебя, протопоп, до самого Пустозерска. Раньше надо было о детишках горевать.
Подошел к иконе «Умиление», перекрестился страстно и горько.
– Богородица! Всех бы вернул и никого бы не отсылал прочь; но ведь не думают о царстве, не печалуются о своем царе! Попусти им – как волки, стаей кинутся. Прости меня в светлый день! Помилуй! Пошли всем гонимым благословение Свое. Пусть им будет тепло да сытно. Пусть славят Тебя, позабыв обиды свои. О Пречистая, да убудет в мире хитрой хитрости!
19Хитрой хитрости не убывало.
Боярин Зюзин, ища дорогу к царскому сердцу, избрал себе в помощники Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина. Знаться с Зюзиным царь запретил Афанасию Лаврентьевичу еще два года тому назад, но слуга, докладывая о просителе, обронил:
– Плачет боярин. На улице мороз, слезы на щеках да на бороде горошинами замерзают.
– Принесло чертову попрошайку, – рассердился Афанасий Лаврентьевич, да о сыне-беглеце вспомнил, о Воине, умерил гордыню. – Позови Никиту Алексеевича. Небось денег на поташное дело будет просить.
Зюзин вошел, улыбаясь виновато, но голову держал крепко, не гнул шею.
– Не ради себя переступил я твой порог, Афанасий Лаврентьевич. Помнишь, что сказано Григорием Богословом: «О причине же моего прежнего противления и малодушия, по которому я удалихся, бегая… а равно и о причине настоящей моей покорности и перемены, по которой я сам возвратился к вам, пусть всякий говорит и думает по-своему, так как один ненавидит, а другой любит…»
Ордин-Нащокин понял, о ком речь.
– Передо мной ли ходатайствовать тебе, Никита Алексеевич? У меня не хватило сил за псковичей заступиться, я просил, но таратую Хованскому[56] с головой отданы. Не смею огорчить великого государя еще одной просьбой.
– Ради Господа, не гони меня, выслушай.
– Я знаю, Никита Алексеевич, ты не из тех, кто, изостриша, яко меч, язык свой, стреляет словами тайно в непорочных.
– Истинно так, Афанасий Лаврентьевич! – Зюзин трижды поклонился, боярин – думному дворянину. – У великого государя на святейшего давно уж нет гнева, одна печаль осталась. Да и у святейшего не по себе скорбь. Великого государя обступили нарядившиеся в греков латиняне. Кто он есть, митрополит Газский, зловредный Паисий Лигарид? Ладно что жид, он папе римскому тайный слуга. Кто ныне возле царевича Алексея? Симеон Полоцкий. Ученый! Чья наука-то в нем? В коллегии иезуитской ума набирался. А все эти послы мелетии, стефаны – сонмище лживое? Афанасий Лаврентьевич, миленький! Почитай письмо святейшего. Я его письма жгу, а последние два сохранил, чтоб тебе показать. Никакого дурна великому государю не будет, если святейший воротится и возьмет в руки свои посох святого митрополита Петра.
Ордин-Нащокин письма принял, прочитал… Последнее его посольство к полякам кончилось ничем. Война довела народ до нищенства[57], но чтобы сотворить вечный мир, нужен хоть один сильный человек в царстве.
– Ах, кабы Господь Бог Церковь нашу умирил! – сказал Афанасий Лаврентьевич и признался: – Не ведаю, что мы доброго можем сделать.
– Я напишу святейшему письмо, позову воротиться в Москву. Великий государь только рад будет приходу господина нашего. У кого поднимется рука – гнать святейшего из своего же дома, яко пса?
Афанасий Лаврентьевич подумал и повторил:
– Ах, кабы Господь Бог Церковь нашу умирил!
Проводив боярина до крыльца, Афанасий Лаврентьевич, всполошенный мечтами Зюзина, достал из ларца, из потаенного ящика, письмо епископа Мстиславского и Оршского Мефодия к Алексею Михайловичу. Царь дал письмо, чтобы получить верный совет: на кого же опереться в Малороссии? Несчастная, непостоянная страна! Снова и снова вчитывался Афанасий Лаврентьевич в строки Мефодиева послания, ища правды, но более неправды.
Епископ уличал в шаткости гетмана Брюховецкого, подсказывал, как держать его в узде: «Прежде всего надобно укреплять города государевыми ратными людьми, тогда гетман поневоле будет государя бояться и служить ему верно». К хорошему совету хороших бы денег на содержание войска. Ратники из полков разбегаются. Голодно. Голодно на Украине. Пропащая страна.
Ордин-Нащокин не любил казаков за «сметливость»: служат, кому ныне выгоднее, не думая ни о вчера, ни о завтра. Мелкодушный народ.
Письма Мефодия подтверждали эту легкую охоту к перемене господина. Гетман Правобережной Украины Павел Иванович Тетеря был при польском короле Яне Казимире, но присылал к Мефодию тайного человека, обещая переметнуться с казаками на сторону русских, если Алексей Михайлович простит ему вину, пожалует прежними, записанными в царских грамотах землями да городами. Клялся помирить великого государя с крымским ханом. Мефодий убеждал не держаться за Брюховецкого. Пусть великий государь простит Тетерю, пусть казаки выберут его гетманом обоих берегов Днепра, и левого, и правого, тогда и войне конец.
«Хохлы! Хохлы! – думал с неприязнью Афанасий Лаврентьевич. – Почитают себя хитрее сатаны. Кто бы мог подумать, чтоб Иван Выговский, вернувший себе, ластясь к полякам, имя Ян, протер бесстыжие глаза, увидел, как слаб король, да и принялся поднимать народ против шляхты. Сложился силами с полковником Сулемой, призывал истреблять старост и каштелянов. И преуспел бы, да Себастьян Маховский напал на него врасплох, схватил, привязал к пушке, и бахнула та пушка, разметав хитрейшего из хитрых… Выговский погиб, Юрко Хмельницкий отрекся от мира, прошлогодний поход короля на Украину кончился полной неудачей… Бедный Ян Казимир так и не смог собрать большого войска, денег не было. Явился на левую, на царскую сторону Днепра, надеясь, что умные казаки поостерегутся биться с самим королем, отпадут от московских воевод. Имея двадцать пять хоругвей конницы – полторы тысячи сабель да триста пехотинцев, – много ли навоюешь? Коронный гетман Станислав Потоцкий пришел к королю с тремя казачьими полками, четырьмя тысячами пехоты и только двумя ротами гусар, знаменитых «крылатых» конников. Менее двух тысяч воинов было у грозного Стефана Чарнецкого, а татары прислали всего пять тысяч…»
И все же тринадцать казачьих городов отворили перед королем ворота, а вот Лохвицу пришлось брать кровопролитным приступом.
Тетеря осадил Гадяч, но, услышав, что идет князь Григорий Григорьевич Ромодановский с калмыками, поспешил убраться подальше. Во-первых, ждал вестей из Москвы, а во-вторых, струсил перед именем калмыков. Всем было ведомо: калмыки ходили с русскими под Перекоп, побили татарских мурз, пленных же не брали и русским брать не позволили. Закалывали.
Если бы под Глуховом Яков Куденетович Черкасский действовал смелее, все бы польское войско полегло вместе с королем.
Бои шли теперь по всей Малороссии. Поляки увезли Киевского митрополита Иосифа Тукальского в Мариенбург, посадили в тюрьму. Туда же и инока Гедеона – Юрка Хмельницкого. Это было хорошо, меньше интриг, но Ордина-Нащокина беспокоила новая мысль, явившаяся у поляка Чарнецкого и страстно поддержанная казаком Тетерей. Королю предлагали создать на Украине несколько старостатов, отдав власть казачьим полковникам и казачьему гетману. Тетеря предупреждал короля: крымский хан стремится оторвать Правобережную Украину от Польши. Спасение от татар не в войне с Крымом, сил уже нет, русские этой войной непременно воспользуются, ударят с тыла – спасение в одном: нужно искать и найти мир в Москве.
Миролюбивость Тетери Ордину-Нащокину очень нравилась. Он склонялся поддержать Мефодия в борьбе с Брюховецким. Иван Мартынович вовсю старается угодить великому государю, но у него распря не только со священством, его ненавидят в малороссийских городах, ибо отдает горожан во власть казачьего своеволия. Киевский воевода Чаадаев казаков в город не пускает.
Ордин-Нащокин думал о Чаадаеве, а мысли уплывали.
И встал перед глазами Воин, сын. Столько беды наделал, сбежав к полякам, но не мог Афанасий Лаврентьевич о надежде своей, уже не сбывшейся, плохое в сердце держать. Видел Воина ясноглазым, с лицом, напряженным мыслью.
Вздохнул: умному да честному – в России горькая доля.
Но ушедший из России – для России мертвец.
20Старец Григорий, в валенках, в шубе, с посошком, пришел в Хорошево. Царь в Хорошеве праздновал день памяти чудотворца Николая Угодника.
Церковь открыта для царя и для последнего нищего. Увидевши перед собою монаха, Алексей Михайлович узнал в нем Ивана Неронова.
– К тебе пришел, грамотку принес! – поклонился царю старец.
– Жду тебя после службы, – сказал Алексей Михайлович.
В царских покоях Неронова сначала угостили пирогом с калиной, стерляжьей ушицей и только потом привели к царю.
– Ругаться пришел? – спросил Алексей Михайлович несердито.
– По глазам, что ли, угадал?
– Да ты всегда ругаешься. От тебя похвалы вовек не услышишь. Русский ты человек, Иван. Про доброе молчок, а про худое всю ярость напоказ.
– Я был Иваном, да стал иноком Григорием.
– Много ли умерился твой норов в иноках? Давай твою грамоту. Чай, все обличаешь меня?
– Нет, великий государь, подаю тебе не обличение, а моление слезное. Возврати, Бога ради, батьку Аввакума да бедных его горемык, жену, детишек, домочадцев… Гонением человека не умиротворишь. Дозволь ему, протопопу, быть со мной на Саре, в пустыни моей. Неразлучно там пребудем, плача о грехах своих.
Алексей Михайлович челобитную принял, но ничего Григорию не сказал об Аввакуме.
– Прочитаю после. Что на словах-то принес? Казни! Нынче кто только не казнит своего царя – и помыслами, и словесно.
– Так уж и казнят! За худое о тебе слово языки режут, руки рубят. Народ о царе молчит, великий государь.
Алексей Михайлович вздохнул, сглотнул комочек обиды.
– Коли народ молчит, говори ты, твой язык, знаю, не червив от лжи, со смирением тебя выслушаю.
Неронов глянул на царя из-под бровей, но улыбнулся вдруг.
– Сам ведь знаешь, о чем скажу. Долго ли ты будешь нянчиться с отступником Никоном? Он хоть и не в Москве, а неустройство плодит, как жаба злодыханная, на все твое пречистое царство – смрад.
– Господи, старец Григорий! Как тебе не страшно такие слова говорить?
– Мне страшно, царь! Погибель православия страшна. Освободи Церковь от цепей Никоновых.
– Я о том плачу и молюсь… В патриархи Бог ставит…
– Да разве не можешь ты вернуть прежние правила, какие Никон самовольно попрал? Архиереи твоего слова ждут как манны небесной. Утром скажешь, а вечером уж придет в храмы благодатное успокоение. Единой молитвой, единым дыханием обрадуем Исуса Христа.
– Ты говоришь «Исус», а надо «Иисус».
– Да почему же «Иисус», когда отцы наши «Исус» говорили?
– В старых книгах и так и этак писано, но ученые богословы наставляют: Иисус – правильно. Языку легче сказать «Иисус».
– Ишь, утруднение какое! Не мудрствуй попусту, великий государь. Никон сам от многих своих новин отшатнулся, понял, что латиняне его уловили. Да сделай же ты доброе добрым!.. Святитель Николай, чудотворец великий, тебя просит. Ведь в его день стою пред твоими очами, говорю тебе, свету нашему. – Упал в ноги вдруг. – Великий государь! Слух идет: собираешься воротить Никона. Упаси тебя Боже поддаться уговорам! Много беды сделалось, а будет вдесятеро.
– Ступай себе, старец Григорий! – сказал Алексей Михайлович. – Молись обо мне, грешном. Мне говоришь: не мудрствуй, так то и для тебя добре. Что Бог даст, то и будет. Благослови.
Благословил государя старец Григорий, пошел от царя, не зная, что и думать. Во дворе Григория в санки посадили, отвезли в Москву.
Над Москвою висла морозная сизая дымка, тоска разливалась над кровлями. Что-то должно было случиться.
21Перед Никоном лежало письмо Никиты Алексеевича Зюзина.
Привезли письмо 11 декабря, на Никона Сухого – бери в ум – на Никона, – и вот уж занимается утро семнадцатого дня, когда празднуют память пророка Даниила, трех святых отроков – Анании, Азарии, Мисаила, не сгоревших в пламени огромной печи, и еще мученика Никиты… Бери в ум – Никита, мирское имя святейшего.
«Являлись ко мне Афанасий и Артемон и сказывали: 7 декабря у Евдокеи в заутреню наедине говорил с нами царь, – писал Зюзин. – Душою своею от патриарха, ей, я не отступен… Как пошел, так и придет – его воля, я, ей-ей, в том ему не противен. А мне к нему нельзя о том отписать, ведая его нрав: в сердцах на архиереев и на бояр не удержится, скажет, что я ему велел приехать, или по письму моему откажет, и мне то будет, конечно, в стыд…»
Письмо пространное, но главное – указано число, когда надобен в Москве: «Только бы пожаловал, изволил патриарх прийти к 19 декабря к заутрене в соборную церковь, прежде памяти чудотворца Петра».