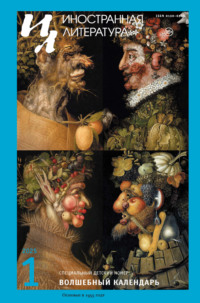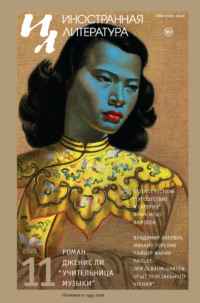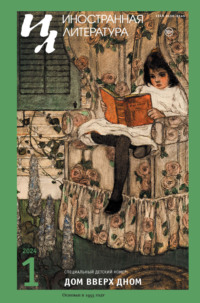Полная версия
Скелет в шкафу
Леди Толк. Что верно, то верно, сударыня, ведь говорят же: с собственными детьми сам дьявол ласков.
Мисс Глазки. Я слышала, супруга из него веревки вьет.
Леди Толк. И за нос водит. Ничего удивительного: она хитра, как сто чертей. И так же честна.
Леди Свиристи. Говорят, она обделена его ласками. В отличие от других представительниц прекрасного пола.
Леди Толк. Его ласками – может быть. Надо быть слепцом, чтобы не видеть, как нежно он ее любит.
Мисс Глазки. И я слышала, сударыня, что она играет с ним, точно кошка с мышкой.
Леди Свиристи. Тоже мне мышка!
Леди Толк. Сударыня, у меня такое чувство, будто я читаю ваши мысли.
Леди Свиристи. Сударыня, на днях мне довелось беседовать с миссис Топот. Эта особа, нет, вы только вообразите, кичится знакомством с вами.
Мисс Глазки. Жуткое создание! Вы не обратили внимание на ее ноготки? Они у нее такой длины, что впору собственную бабушку из могилы выкопать.
Леди Толк. Вечно они с лордом Балаболом обмениваются сомнительными комплиментами. Помните: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха…»
Мисс Глазки. Ну да, ты – мне, я – тебе. Но скажите, сударыня, где вы с ней повстречались?
Леди Свиристи. И вы еще спрашиваете, где, милочка? В свете, где ж еще. В большом свете. Боже, кого там только не было! И миссис Топот, и леди Ври, и графиня Вру (мне следовало с нее начать), и Том Балабол, и еще несколько человек – всех и не запомнишь…
Леди Толк. Я слышала, графиня занемогла.
Леди Свиристи. Да уж, такие, как она, до седых волос, увы, не доживают.
Мисс Глазки. И о чем же вы беседовали?
Леди Свиристи. Миссис Топот, как водится, только о себе и говорила. На жизнь жаловалась.
Леди Толк. Это она-то жаловалась на жизнь?! У ее мужа десять тысяч годового дохода, один дом в городе, второй – в деревне. Мало ей?
Леди Свиристи. Про таких, как она, говорят: еще лестницы нет, а ей уже наверх подняться приспичило.
Мисс Глазки. Говорят, все сравнения хромают, но они с мужем – два сапога пара, согласитесь? Скажите, а как она была одета?
Леди Свиристи. Не одета, а разодета. В пух и прах. Но, как говорится, не в коня корм.
Леди Толк. А чем занимается ее муж? Я с ним незнакома.
Леди Свиристи. В самом деле? Он из судейских – в том смысле, что всех судит. Судейский, а пьет как сапожник!
Мисс Глазки. Что ж он за человек?
Леди Свиристи. Точно такой же, как и его жена. Известное дело: муж и жена – одна сатана. Он, правда, толстый, как боров, а она корова тощая плотью, как во сне фараона[3]. Дамы и Том Балабол предложили сыграть партию в кадриль, но мистер Топот в карты играть наотрез отказался. В воскресенье, говорит, не играю. Вот в четверг, да еще после дождичка, – со своим удовольствием.
Леди Толк. Какой, однако, сумасброд! Всем досадил, всех в тупик поставил, всех за нос водит. Что ж, насильно, как говорят, мил не будешь.
Мисс Глазки. Мой Бог, сударыня, ни за что не водила бы дружбы с такими людьми! А если попросту, и на одном поле бы…
Леди Толк. Фи, милочка, стыдитесь! Это же вопрос привычки, как вы не понимаете. Она ведь, известное дело, свыше нам дана. И потом, если уж заводишь знакомство, то по пословице: один друг – хорошо, а двое еще лучше.
Мисс Глазки. А вы, ваша светлость, сели играть?
Леди Свиристи. Да, и, представьте, выиграла. Собрала, как говорится, неплохой урожай. Как это в народе шутят: и рыбку съела, и костью не подавилась…
Леди Толк (мисс Глазки). Что это вы, милочка?
Мисс Глазки. Нос что-то чешется – не иначе, влюб-люсь скоро.
Леди Толк. А у меня левая рука чешется. Это, говорят, – к деньгам.
Леди Свиристи. А у меня – правый глаз. К слезам.
Леди Толк. До меня дошли слухи, милочка, будто ваша подруга, миссис Вертопрах, рассталась с Диком Сердцеедом. Не знаете ли случаем, у нее теперь другой воздыхатель?
Мисс Глазки. Спросите что-нибудь полегче.
Леди Толк. Я слышала, Дик богат, как Крез, и она сглупила, поспешив от него избавиться. Не зря ж говорят: поспешишь – людей насмешишь. (Мисс Глазки.) На вас очень красивое платье, милочка. И сидит превосходно. Просто прелесть.
Мисс Глазки. Поверю вашей светлости на слово.
Леди Свиристи. Уверяю вас, ваш возлюбленный будет в восторге, оно вам очень даже к лицу.
Мисс Глазки. Уверяю вас, сударыня, я бы ни за что его не купила, если б не знала, что он на него купится.
Леди Толк (леди Свиристи). Скажите, сударыня, когда вы последний раз видели сэра Питера Скрягга?
Леди Свиристи. Недели две назад, а то и раньше. Говорят, его подагра скрутила.
Леди Толк. И как же он лечится?
Леди Свиристи. До меня дошли слухи, что лечиться ему надоело. Не зря ж говорят: терпение – лучшее лекарство. Терпит и блудит. Терпение и блуд – всё перетрут!
Мисс Глазки. Кстати о блуде. С женой сэр Питер ладит?
Леди Свиристи. Насчет «лада» спросите лучше его жену – такому ладу она едва ли рада, но дело будто бы идет на лад.
Мисс Глазки. Говорят, ее супруг сущий клад. А вот она, я слышала, связалась с шулерами и спускает все, что есть в доме.
Леди Свиристи. Вздор. Не родился еще тот шулер, который бы ее обыграл. Она любого шулера за пояс за-ткнет.
Мисс Глазки. А мне рассказывал очевидец, что она за один присест ухитрилась проиграть сто гиней – деньги не маленькие.
Леди Толк. Да, деньги счет любят… Кстати, вы слышали, что миссис Передок наконец разродилась.
Мисс Глазки. И кого же ей Бог послал?
Леди Толк. А вы угадайте.
Мисс Глазки. Думаю, мальчика.
Леди Толк. Вот и не угадали. У вас еще одна попытка.
Мисс Глазки. Тогда девочку.
Леди Толк. Именно. Как это вы догадались? Уж не ведьма ли вы?
Мисс Глазки. Ах, сударыня, джентльмены утверждают, что все красивые женщины – ведьмы. Я, впрочем, на это не претендую.
Леди Свиристи. И какими это чарами ей удалось завлечь ее нынешнего мужа под венец? Вот что значит быть слабой на передок!
Мисс Глазки. Что вы этим хотите сказать, сударыня?
Леди Толк. Не берите в голову, милочка.
Мисс Глазки. Не говорите такое, да еще так громко. У стен есть уши, сударыня.
Леди Свиристи. Ничего не попишешь, милочка, так уж я устроена: что думаю, то и говорю. Называю вещи своими именами.
Леди Толк мешает чай щипцами для сахара.
Леди Толк. Мой Бог, что это я делаю?! Совсем голова набекрень.
Мисс Глазки. Ничего страшного, сударыня, уж лучше набекрень, чем в небесах.
Леди Толк. Признавайтесь, милочка, вы с леди Свински ведь на дружеской ноге?
Леди Свиристи. Да, их, говорят, водой не разольешь.
Леди Толк. Вот-вот, и я слышала, что вас тянет к ней, как корову к стогу сена.
Мисс Глазки. Знать бы, еще, кто из нас корова…
Леди Толк. Говорят, она последнее время сильно раздалась. Это верно?
Мисс Глазки. И что она вам далась?
Леди Толк. Кстати, уж вы меня простите, леди Свиристи, но сдается мне, что ваша светлость, с тех пор как мы последний раз виделись, немного похудели.
Мисс Глазки. А вот мне так не кажется, сударыня. «Жалкие утешители все вы», – как сказал Иов[4].
Леди Свиристи. Ах, какая, в сущности, разница, как я выгляжу. Главное на меня, как принято теперь выражаться, есть спрос. Право же, милочка, ваша реплика меня весьма тронула. А потому я желаю вам, чтобы вам достался самый прекрасный принц на свете.
Мисс Глазки. Ах, сударыня, вы так добры ко мне. Ваша любовь стоит всех сокровищ мира.
Леди Толк (леди Свиристи). Сударыня, ваша светлость позволит мне сопровождать вас завтра в театр?
Леди Свиристи. Сударыня, это я должна просить у вашей милости разрешения вас сопровождать.
Мисс Глазки. А я, стало быть, как всегда, вне игры.
К дамам присоединяются джентльмены.
Мисс Глазки. Мистер Взаперти, вы нам очень нужны. Куда это вы подевались? За вами, как за смертью, посылать.
Мистер Взаперти. Я был вам нужен? Лжет и не краснеет.
Мисс Глазки. И не покраснею, не дождетесь. И потом, что за выражения? Вы совершенно неисправимы.
Мистер Взаперти. Прошу прощения, мисс, я хотел сказать «лижет и не краснеет»…
Мисс Глазки (краснеет). Час от часу не легче! Ишь как вывернули… Нет, я вижу, вам спуску давать нельзя. А лучше бы – и вовсе спустить с лестницы.
Мистер Взаперти. Простите, мисс. Налейте-ка мне лучше кофе.
Мисс Глазки. Бог простит. И кофе сами себе наливайте – я ногу отсидела. А вы – прикусите язык.
Полковник Умней. У женщины, говорят, предлог всегда найдется. Высосут из пальца.
Мистер Взаперти. Какая сердитая! Спустила на меня всех собак. А впрочем, собака лает, ветер носит…
Мисс Глазки. А вот полковник, в отличие от вас, мистер Взаперти, мухи не обидит. Не зря же говорят: большая собака – в старости щенок.
Мистер Взаперти. Это вы-то муха?! Боже правый, эта юная особа за словом в карман не лезет.
Полковник. Что ты сказал, Том? Ну-ка повтори, я не дослышал. В чей карман?
Все громко смеются.
Лорд Толк. Перестаньте, джентльмены. Вы слишком суровы с бедной мисс Глазки. Клянусь Богом, и вы, полковник, и вы, мистер Взаперти, друг друга стоите.
Полковник. Леди Свиристи, имею честь пригласить вас завтра со мной отужинать.
Леди Свиристи. Ах, полковник, много чести.
Мисс Глазки (в сторону). Предложение сделано – честь по чести.
Полковник. Благодарю вас, мисс, окажу честь и вам: заявлюсь к вам утром чай пить.
Мисс Глазки. В таких случаях говорят: без меня меня женили.
Полковник (леди Толк). У вашей милости отличнейшие часы. Носить вам их – не переносить.
Леди Толк. Эти часы мне не принадлежат, полковник.
Полковник. Чьи же они?
Леди Толк. Моего мужа. Говорят же, у замужней женщины нет ничего своего, кроме обручального кольца да тесьмы для волос. Нам, женщинам, закон пишут, а мужчинам он не писан…
Полковник. А часы, как я погляжу, совсем новые.
Леди Толк. Куда там, сэр. Двадцать лет уже моему мужу служат. Но век свой, как видно, еще не отслужили.
Мистер Взаперти. Вы мне напоминаете человека, который утверждал, будто нож ему служит сорок лет – он только рукоятку да лезвие поменял.
Лорд Толк. Надо вам отдать должное, Том, с вами не соскучишься.
Полковник. А вот я недавно табакерку сломал, никак в себя придти не могу.
Мисс Глазки. Тут жизнь ломается – и то ничего.
Мистер Взаперти. Хотите совет, полковник. Чем чинить старую табакерку, купите-ка лучше новую. Табакерка, как женщина: одна хорошо, а две лучше.
Мисс Глазки смеется.
Полковник. Вот вы и показали зубки, мисс.
Мисс Глазки. И то сказать, за чужой щекой зуб не болит.
Мистер Взаперти. От вас исходит обворожительный запах, мисс. Уж не пользуетесь ли вы духами?
Мисс Глазки. Духами?! Господь с вами, сэр, я духи на дух не переношу.
Лорд Поблекли. Мне кажется, леди и джентльмены, вы все слишком остроумны за чужой счет. Негоже смех во зло употреблять.
Полковник. Вы же видите, милорд, мисс Глазки никого не щадит. Вышла бы поскорей замуж, что ли! А впрочем, какой жеребчик – таков и конь.
Мисс Глазки. Который уж раз меня сегодня замуж выдают! А вам, полковник, спасибо на добром слове.
Лорд Поблекли. Не обижайтесь, мисс. Обида глаза не выест.
Лорд Толк. А вы что на это скажете, полковник?
Мистер Взаперти. Милорд, мой друг полковник ни за что на свете не станет поднимать на смех столь юное создание.
Мисс Глазки. Когда такие, как полковник, поднимают на смех, впору со смеху помереть.
Полковник. Не зря говорят, мисс, что у женщин хорошо подвешен язык. А потому давайте-ка обнимемся и останемся друзьями (оглядывает комнату). Как же красиво распустились цветы! (Пытается обнять мисс Глазки.)
Мисс Глазки. А вы не распускайте руки! (отталкивает его).
Лорд Поблекли. Ну, полковник, досталось вам на орехи. А вы очень строги, мисс, вам, как я посмотрю, слова поперек не скажи.
Мисс Глазки. У меня, уверяю вас, милорд, одно слово в ухо влетает, в другое вылетает. Дали бы спокойно чаю выпить!
Мистер Взаперти. Чай – не вода, в рот не наберешь!
Мисс Глазки. Ах, не умеете же вы держать язык за зубами, мистер Взаперти. Болтаете языком, точно кумушка записная!
Мистер Взаперти. Нет, мисс, уж лучше болтать языком, чем держать его за зубами! Зуб даю!
Полковник. Вы что, не слышали, мисс, что одна женщина целый выводок гусей стоит – столько от нее шума.
Мисс Глазки. Вы бы с мистером Взаперти всех гусей на свете перекричали.
Входит лакей.
Леди Толк. Унесите чай и принесите свечи.
Леди Свиристи. Прошу вас, сударыня, не надо свечей, еще ведь совсем светло.
Мистер Взаперти. Кто-кто, а мисс Глазки предпочитает полумрак – она к солнечному свету непривычна.
Мисс Глазки. От вашей трескотни, мистер Взаперти, уши вянут.
Леди Толк. Однако темнеет, сударыня. Вскоре мы все будем на одно лицо. Ночью, как говорится, все кошки серы.
Мистер Взаперти. И мы сможем целоваться, мисс, сколько захотим.
Мисс Глазки. Господи, эти мужчины только о поцелуях и думают! (Сплевывает в сердцах.)
Мистер Взаперти. Я вижу, мисс, у вас уже слюнки текут.
Леди Толк. Кто бы мне ответил, что лучше – без света сидеть или в темноте. Давайте все же зажжем свечи: женщины и женское белье лучше смотрятся при свечах. Ну-с, джентльмены, как насчет партии в кадриль?
Полковник. Всегда к вашим услугам.
Леди Свиристи. А я отправляюсь к слугам.
Лорд Толк (леди Свиристи). Вы, ваша светлость, не берете в руки карт?
Полковник. Отчего же, ее светлость порой играет – на яичко к христову дню.
Мистер Взаперти. И на поцелуй к Рождеству.
Леди Свиристи. Будет вам, мистер Взаперти. Держите язык за зубами. А еще лучше – на привязи.
Мистер Взаперти. Слушаюсь и повинуюсь, я ведь к вам так привязан.
Полковник, мистер Взаперти, леди Толк и мисс Глазки садятся за карты и встают из-за ломберного стола лишь в три часа утра.
Леди Толк (мисс Глазки). Ну, милочка, вам так везет в карты, что на везение в любви можете не рассчитывать.
Мистер Взаперти. А вот мне, мисс, карты шли преотвратные. А еще друзья называются! Хорошую карту и ту сдать не могут. Не зря же говорят: со своими врагами я справлюсь сам, а вот друзей без Божьей помощи мне не одолеть.
Леди Свиристи. Ну а теперь, как говорится, и на покой пора.
Мисс Глазки. Признаться, у меня уже глаза на затылке. (Трет глаза.)
Мистер Взаперти. Не глаза, а глазки. Приятных сновидений, мисс Глазки. Желаю увидеть козла и осла, осла до полночи…
Мисс Глазки. На осла я уже сегодня вдоволь насмотрелась. Увольте!
Полковник. Отправлюсь-ка и я в сонное царство.
Мистер Взаперти. А вот я – в царство Морфея.
Леди Толк. Спать буду, как убитая.
Мистер Взаперти (мисс Глазки). Желаю, мисс, чтобы вам приснился прекрасный принц.
Мисс Глазки. Чем видеть столь кошмарный сон, уж лучше всю ночь бодрствовать. Нет уж, спать буду сном праведницы.
Полковник (мисс Глазки). Сударыня, позвольте мне сопровождать вас до самого вашего дома.
Мисс Глазки. Господь с вами, полковник. За мной матушка карету с лакеем послала. Прощайте, леди Толк, дам вам отыграться в любой удобный для вас день. Выстрел, как говорится, за вами.
Входит дворецкий.
Дворецкий. Сударыня, карета у подъезда.
Все рассаживаются по каретам и разъезжаются.
КОНЕЦ
Генри Филдинг. Из журнала «Ковент-Гарден»

Правила для критиков
Majores Nusquam Rhonchi; Juvenesque, Senesque, et Pueri Nasum Rhinocerotis habent[5].
Суббота, 11 января 1752 года, № 3
Из бумаг, находящихся ныне в моем ведении, следует, что, согласно цензорским проверкам, проведенным tricesimo qto. Eliz.[6] одним из моих прославленных предшественников, в городах Лондон и Вестминстер действовало никак не более девятнадцати критиков. При последней же проверке, которую осуществил я сам 25 Geo. 2 di.[7], число лиц, претендующих на право принадлежать к сей славной профессии, достигло 276 302 человек.
Сей колоссальный прирост объясняется, на мой взгляд, весьма прискорбной нерадивостью прежних цензоров, которые превратили свою службу в совершеннейшую синекуру и, как мне удалось выяснить, не проводили проверок со времен Исаака Бикерстаффа{44}, бывшего цензором в последние годы правления королевы Анны.
Той же халатностью объясняются и посягательства на все прочие слои общества. За последние несколько лет, как выяснилось, число джентльменов существенно возросло, тогда как число шулеров сократилось, причем в той же пропорции.
Свою цель, следовательно, я вижу в том, чтобы попытаться исправить вышеизложенные недостатки и восстановить пошатнувшуюся репутацию той высокой должности, каковую я имею честь занимать. Вместе с тем я отдаю себе отчет, что подобного рода действия должны осуществляться с благоразумием и без спешки, ибо давние, глубоко укоренившиеся пороки никогда не излечиваются средствами сильными и быстродействующими, запоминающимся примером чему может служить благородный император Пертинакс{45}. «Сей достойный муж (пишет Дион Кассий) погиб оттого, что вознамерился разом искоренить все пороки своего государства. Человек высокообразованный, он, однако, не мог взять в толк, что осуществление преобразований одновременно в разных направлениях не только небезопасно, но и невозможно. К нездоровому обществу правило это применимо в той же, если не в большей, степени, что и к частной жизни».
Вот почему я счел неразумным на основании проведенного подсчета подвергнуть число критиков существенному сокращению. На этот раз я принял всех, кто пожелал вступить в наши ряды, однако впредь делать этого не стану, ибо я вознамерился испытать качества каждого из претендентов на деле.
Дабы всякий, кто считает себя вправе именоваться критиком, мог заранее подготовиться к сему испытанию, считаю необходимым изложить некоторые требования, коим должен соответствовать всякий, пожелавший удостоиться чести быть причастным к сей достойнейшей из профессий. Обязуюсь, однако, следовать приведенному мною правилу со сдержанностью и осмотрительностью, ибо хотел бы распахнуть двери в критическое сообщество как можно шире, чтобы обеспечить доступ как можно большему числу людей.
Кажется, Квинтилиану{46} принадлежит мысль о том, что хорошим критиком великого поэта может стать лишь тот, кто и сам является великим поэтом. Если эта мысль верна, то число критиков – во всяком случае, критиков поэзии – крайне невелико; в этом случае из древних правом именоваться критиком будут обладать разве что Гораций и Лонгин{47}, о котором, хоть он и не был поэтом, мистер Поуп отозвался весьма лестно:
Тебя, Лонгин, талантливее нет{48}:Твои – все девять муз; ты – критик и поэт.Однако при всем уважении к столь великому имени, как Квинтилиан, это правило представляется мне излишне суровым. С тем же успехом можно было бы сказать, что лишь тот, кто стряпает сам, может по достоинству оценить качество стряпни.
Требовать от критика знаний столь же абсурдно, как требовать от него гениальности. Почему человек в этом случае более, нежели во всех остальных, обязан руководствоваться чьими-то взглядами, кроме своих собственных? Не едим же мы по правилам – отчего же должны мы по правилам читать?! Если мне по вкусу бычья печень или Олдмиксон{49}, с какой стати должен я давиться черепаховым мясом или Свифтом?
А потому из всех навыков человек, именующий себя критиком, владеть обязан только одним умением читать, и в этом есть неопровержимая логика, ибо как он в противном случае может называться читателем? Ведь если верно, что каждый читатель – критик, то, стало быть, и всякий, называющий себя критиком, не может не быть читателем.
При этом я требую от критика не только умения читать, ни и применения этого умения на практике. Всякий, кто выскажется о книге до тех пор, пока не прочтет из нее хотя бы десять страниц, навсегда лишится права именоваться критиком.
В-третьих, все критики, которые, начиная с первого февраля следующего года, вознамерятся раскритиковать книгу, должны будут объяснить, чем они руководствовались. Впредь критик не будет иметь права промямлить что-нибудь вроде: «Даже не знаю, что и сказать… Знаю только, что мне эта книга не по душе…» Его резоны могут быть сколь угодно вздорными, но они должны быть обоснованы. Такие слова, как «чушь», «вздор», «бред», а также «бессвязно», «прискорбно», «постыдно», впредь запрещаются – раз и навсегда.
Запрет этот распространяется, впрочем, лишь на тех критиков, которые не держат свои взгляды при себе, ибо всякий имеет полное право невзлюбить любую книгу, если только он не придает свое мнение огласке. В этом случае он может не прочесть или не понять из нее ни единого слова, а также полностью извратить ее смысл.
Но коль скоро право иметь свое суждение распространяется в критике ничуть не дальше, чем в иных областях, я со всей ответственностью заявляю: в будущем я не позволю исполнять обязанности критика особам мужского пола до той поры, пока они не достигнут восемнадцати лет, ибо до наступления этого возраста им дозволяется принимать решения относительно лишь такого пустячного дела, как женитьба, и только когда им исполняется восемнадцать, закон дает им право распоряжаться своим имуществом. Особ женского пола я, пожалуй, буду принимать несколько раньше, при условии, однако, что они либо умны, либо хороши собой, либо владеют состоянием от пяти тысяч фунтов и выше.
Наряду с мужчинами и женщинами юного возраста из числа критиков будут исключены все люди с ограниченной дееспособностью, к каковым относятся как не правомочные, так и истинные безумцы и идиоты. Сюда входят все те, кто ни при каких условиях не способен отличить добро от зла, правду от лжи, мудрость от глупости.
Есть также отдельные лица, кому я разрешу исполнять обязанности критика лишь частично; так, распутникам, щеголям, шулерам и светским дамам строго-настрого, под угрозой исключения из сообщества, запрещается критиковать любое произведение, написанное на темы религии или морали. Адвокатам, врачам, хирургам и аптекарям строго запрещается высказываться о тех авторах, кто добивается преобразований в праве или в медицине. Государственным чиновникам и будущим государственным чиновникам (за вычетом честных людей), со всеми их подчиненными и прихлебателями, ставленниками и будущими ставленниками, сводниками, шпионами, иждивенцами, доносчиками и агентами, запрещается, также под страхом исключения, высказывать свое мнение о всяком произведении, автор которого стремится принести пользу королевству. Что же до памфлетистов, которые преследуют великую цель либо все высмеять, либо всему найти объяснение, то и тем и другим предоставляется полная свобода; первые могут все ругать и, как водится, проклинать; вторые, сколько им вздумается, – восхвалять и славословить. Все критики, кому это правило покажется несправедливым, будут сочтены бесчестными, а их критика объявлена бессодержательной и лишенной всякого смысла.
Ни один автор не будет принят в когорту критиков до тех пор, пока он не прочел в оригинале и не усвоил Аристотеля, Горация и Лонгина, а также пока не будет засвидетельствовано, что он хорошо отозвался хотя бы об одном из ныне живущих авторов, кроме себя самого.
И наконец, последнее. Под страхом нашего крайнего неудовольствия всем без исключения возбраняется критиковать любое из произведений, какое мы сами сочтем возможным представить публике. Тот же, кто посмеет нарушить это правило, будет не только изгнан из рядов зоилов, но и из любого другого сообщества, в коем придется ему состоять, и имя его отныне и навсегда будет вписано в анналы Граб-стрит.
О юморе
Non hoc jocosae conveniunt lyrae[8].
Суббота, 7 марта 1752 года, № 19
Если кто-нибудь захочет выдать груду камней за неподдельные брильянты или же назовется китайцем и станет торговать безделушками из грубой глины, выдавая их за китайский или дрезденский фарфор, – последствия в обоих случаях очевидны. Едва ли найдется хоть один человек, которого удастся провести, и обманщики немедленно станут предметом всеобщего осмеяния и презрения.
Сходным образом, если какой-нибудь человек притворится знатоком и будет ходить по городу, убеждая всех и каждого, что лучшие драгоценности, находящиеся во владении мистера Лейкана, являются не более чем подделкой, – разве не будет человек этот признан сумасшедшим, разве не постыдится он показываться на глаза людям?