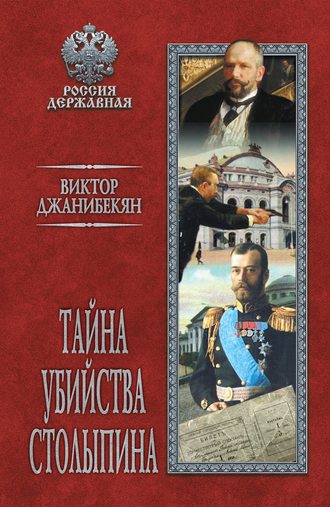
Полная версия
Тайна убийства Столыпина
– Я прошу разрешения задержать их на некоторое время, потому что они меня интересуют.
Отказать государю в просьбе Сипягина не могла.
Получить обратно записи оказалось делом трудным. Она вынуждена была обратиться к своему племяннику, графу Д.С. Шереметеву, флигель-адъютанту двора, просила, чтобы во время своего дежурства он напомнил государю о его обещании.
Как-то она посетила государыню. Та, в конце визита, попросила ее обождать:
– Вас хочет видеть государь.
Появившийся Николай II вручил Сипягиной пакет, сказав, что с благодарностью возвращает мемуары ее супруга.
– Они весьма интересны, – добавил он, прощаясь.
Раскрыв дома пакет, Сипягина увидела, что ей возвращен лишь первый дневник, второго в пакете не было. Она вновь обратилась к племяннику, полагая, что вернуть второй дневник сможет лишь он – граф Шереметев был другом детства Николая II.
Тот вначале обратился к Гессе. Услышав про дневники Сипягина, Гессе оборвал генерала:
– Что вы носитесь с этими дневниками?
После этой фразы их отношения стали натянутыми, Шереметев перестал разговаривать с Гессе. Тому, понятно, это не понравилось, и однажды на обеде, на котором присутствовал царь, чтобы восстановить отношения, Гессе сам вернулся к старой теме:
– Что касается мемуаров Сипягина, то могу уверить вас, что я лично передал государю то, что получил.
Второй дневник Сипягина исчез навсегда. Было ясно, что руку к этому приложил сам государь, оставив его у себя. Прослышав о подозрениях касательно его персоны, Николай II как-то заметил, что поскольку Гессе был не в ладах с покойным, то представляется вполне возможным, что именно он и уничтожил этот дневник. Сказал он об этом в отсутствие дворцового коменданта.
А граф Шереметев был порядочным человеком. Он признался Витте, что после выяснения всех обстоятельств пропажи дневника министра пришел к определенному выводу.
– Какому? – уточнил Витте.
– Что тетрадку уничтожил сам государь!
После того как был издан Манифест 17 октября, Шереметев страшно оскорбился, что его любимый государь пошел на уступки оппозиции. Он приказал в своем дворце немедленно повернуть все портреты его величества к стене, чтобы не видеть его изображения. Самый большой портрет приказал отнести на чердак.
* * *Удивительная метаморфоза произошла с генералом Ванновским, министром народного просвещения. Тот был старой закалки и ярый консерватор, но и он никак не мог ужиться с Плеве.
– В чем же дело? – спросили у него. – Ведь вы с Плеве оба строгие консерваторы?
– Но он такой махровый… Хуже не бывает!
Приняв министерство, Плеве сразу отправился в Харьков. По всей стране ширились крестьянские бунты и волнения – крестьяне требовали землю. Харьковский губернатор князь Оболенский ответил на них по-своему – он приказал произвести усиленную порку возмущавшихся и, чтобы его повеление выполнялось, лично ездил по деревням и наблюдал, как наказывают бунтовщиков.
Плеве не сделал ему внушения, а, наоборот, поддержал. Позже он даже выдвинул князя за инициативу в генерал-губернаторы Финляндии.
«Революцию надо душить в зародыше!» – говорил Плеве, но он не только боролся с революционерами, он устраивал и гонения на евреев. Как при графе Игнатьеве, так и при Дурново Плеве был одним из сочинителей всех антиеврейских проектов. При этом он говорил:
– Против них лично я ничего не имею!
Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович был честным, мужественным и прямым человеком, но имел две слабости, одна из которых состояла в его нелюбви к евреям, а вторая не имела никакого отношения ни к службе, ни к политике. В последние годы его правления в Москве прославился обер-полицмейстер генерал Трепов, который, как отмечали многие современники, и довел Первопрестольную до революционного состояния.
Принятые против евреев меры лишь накалили обстановку. Поскольку груда законов о евреях в России представляла собой смесь неопределенностей с возможностью широкого их толкования в ту или иную сторону, то на этой почве и происходили произвольные толкования, угодные властям. Так расцвело взяточничество.
«Ни с кого администрация не берет столько взяток, сколько с евреев, – писал граф Витте. – В некоторых местностях прямо создана особая система взяточнического налога на жидов. Само собою разумеется, что при таком положении вещей вся тяжесть антиеврейского режима легла на беднейший класс, ибо чем еврей более богат, тем он легче откупается, а богатые евреи иногда не только не чувствуют тяжести стеснений, а, напротив, в известной мере главенствуют, они имеют влияние на высших чинов местной администрации».
С существующими порядками пытались бороться некоторые сенаторы, но Министерство внутренних дел доносило государю на них, как на противодействующих администрации. Таких сенаторов не награждали, их переводили из департаментов, назначая новых, послушных, и вскоре Сенат толковал законы так, как это нужно было Министерству внутренних дел.
Между тем существующее положение революционизировало население.
Вникнуть бы Плеве в суть вопроса, как вник в него в свое время Александр II, но граф историей не интересовался и не любил философствовать, а тем более рассуждать. К тому же он не осуждал тех, кто науськивал толпу на евреев, и таким образом поощрял погромы.
Погромы бывали и в бытность министра Игнатьева. Потом пришел граф Толстой – погромы прекратились. Плеве не был строг в этом вопросе, и при нем разразились погромы, среди которых самый ужасный произошел в Кишиневе.
Из воспоминаний графа С.Ю. Витте:«Граф Мусин-Пушкин, генерал-адъютант закала императора Николая I, бывший тогда командующим войсками Одесского округа, рассказывал, что немедленно после погрома он приехал в Кишинев, чтобы расследовать действия войск. Описывая все ужасы, которые творили с беззащитными евреями, он удостоверял, что все произошло оттого, что войска совершенно бездействовали, а бездействовали они оттого, что им не давали приказания действовать со стороны гражданского начальства, как того требует закон. Он возмущался всей этой ужасной историей и говорил, что этим путем развращают войска.
Пушкин не любил евреев, но он был честный человек. Еврейский погром в Кишиневе, устроенный попустительством Плеве, свел евреев с ума и толкнул их окончательно в революцию. Ужасная, но еще более идиотская политика!..»
Нет, Плеве эти погромы не устраивал, но и не скрывал, что допускает, чтобы погромы носили антиреволюционный характер. Мировая общественность осуждала царскую власть. Плеве отстаивал, несмотря на это, свое мнение: пока будет революция, будут и погромы.
В Париже он встречался с еврейскими лидерами и говорил им то же, что и раввинам в России:
– Заставьте ваших прекратить революцию, я прекращу погромы и отменю стеснительные против евреев меры.
Ему отвечали:
– Мы не в силах; молодежь, озверевшую от голода и стеснений, нам не удержать. Если вы начнете проводить умную политику и проведете облегчительные в отношении евреев меры, наша молодежь успокоится.
Плеве порой забывал, что кроме евреев в революцию шли русские, малороссы, представители других национальностей, населявших империю. Шли, конечно, не от хорошей жизни. Он был умен и культурен, но в нем всегда брало верх полицейское начало, а это все портило. Он придерживался и полицейской силы, и полицейской хитрости, отсюда и его интерес к идеям жандарма Зубатова – разложить рабочее движение. Тем самым, полагал он, мы приблизим к себе фабричный люд, отдалив его от революционеров.
Интересно, что поначалу Плеве высказывался о затее Зубатова как о глупой и вредной, но потом, изменив свое мнение, привлек Зубатова в Департамент полиции и подчинил ему все охранные отделения. Уезжая однажды в отпуск, министр отпустил по делам и директора Департамента полиции А.А. Лопухина.
– Кто же у вас остается? – спросили министра.
– Зубатов, – ответил Плеве, – он справится.
В рабочем движении, организованном Зубатовым, черпал свои силы знаменитый священнослужитель Гапон, пропагандирующий социалистические идеи.
– Я знаю, – говорил Плеве, – меня когда-нибудь убьют.
Он усилил свою охрану. Он ходил окруженный полицейскими, и, когда ездил в карете, его сопровождали агенты на велосипедах. Ездили они так неискусно, что все передвижения министра обращали на себя всеобщее внимание.
Плеве полагал, что он – новатор, что велосипеды, привезенные из-за границы, его спасут. Он не думал, что, когда человек держит двумя руками руль, ему уже не до оружия! И был убит в тот день, когда ехал на доклад к царю, по обыкновению в карете, окруженной охранниками-велосипедистами. Революционер Созонов бросил под карету бомбу. Плеве был убит на месте, кучер – ранен. Портфель министра с докладом остался невредим.
Говорили, что, осматривая его бумаги и всеподданнейший доклад государю, товарищ министра Дурново вроде бы обнаружил в них сообщение тайного агента из какого-то немецкого городка. В этом донесении упоминалось имя графа Витте, который якобы принимал участие в подготовке революционного выступления против государя. Много позже Витте объяснил дело так: Плеве боялся, что государь заменит его на Витте, а так как ему очень не хотелось покидать пост министра внутренних дел, то он и состряпал документ, порочащий графа.
Пытаясь усмирить народ, Николай II смещал и назначал министров, но успокоения от этого не наступало.
В 1904–1905 годах министром был князь П.Д. Святополк-Мирский, генерал-адъютант, который с 1906 года командовал отдельным корпусом жандармов. При нем случилось Кровавое воскресенье, пролог первой русской революции. Выяснилось, что в министры князь не годится – слаб, либерален, не умеет быть жестким.
С января по октябрь 1905 года министром был А.Г. Булыгин, который до этого занимал должность московского губернатора, а потом помощника московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
Булыгин с революцией не справился.
Потом был назначен полицейский профессионал Петр Николаевич Дурново, за плечами которого была служба в разных должностях – вице-директор Департамента полиции (1883–1884), директор Департамента полиции (1884–1893), товарищ министра (1900–1905).
– Хороший полицейский опыт, – говорили, рекомендуя его.
– Я знаю, – с улыбкой отвечал Николай II, – слишком хороший опыт.
Все знали давнюю любовную историю Дурново, которая едва не стоила ему карьеры. Не забыл о ней и царь.
Дурново был не только активным полицейским, но и большим поклонником прекрасного пола. Приревновав свою возлюбленную к иностранному послу, он, будучи директором Департамента полиции, приказал агентам произвести в доме дипломата тайный обыск.
– Все письма, адресованные ему, – приказал он, – доставить ко мне!
Дурново искал любовные письма, агенты считали, что идут поиски утечки государственной тайны. Разве в любовных письмах нельзя раскрыть служебные тайны?
Письма были доставлены, и директор департамента, не успев даже прочитать их, был возмущен. Он убедился в женской неверности.
На другой день он встретил предательницу. Объяснение было бурным, после чего изменившая ему женщина побежала к дипломату и, плача, подробно рассказала об инциденте. Под глазом у нее светился большой синяк.
Как истинный мужчина, дипломат поднял шум. Скандал дошел до государя Александра III. Спас положение министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново, который был однофамильцем провинившегося, но отнюдь не родственником. Он и уговорил государя не увольнять того совсем, а назначить хотя бы в Сенат. Это выглядело бы почетно.
– Хорошо, – сказал Александр III, – я с вами согласен.
И наложил на доклад короткую резолюцию: «Убрать эту свинью в Сенат в 24 часа!»
У Петра Николаевича, кроме слабости к дамам, была и другая – он играл на бирже. И однажды проигрался. Что делать? Где брать взаймы?
Витте доложили, что сенатор Дурново просит его принять. Витте принял.
Дурново честно признался: он проиграл на бирже шестьдесят тысяч рублей и они ему безвозвратно нужны, чтобы сберечь свою честь.
Витте его огорчил:
– Я не могу вам помочь. Для этого мне пришлось бы просить его величество о такой услуге, а оснований у меня на то никаких нет.
– А если бы вас просил Сипягин?
– Я откажу и ему, несмотря на наши добрые с ним отношения. Дам совет, если Сипягин обратится к его величеству, пусть меня оставит в стороне, ибо я буду противиться и государю.
На другой день, когда Витте встретился с Сипягиным, тот спросил его, как он относится к Петру Николаевичу.
– К его деятельности в Сенате отношусь положительно. А вообще Дурново я хорошо не знаю, чтобы давать ему рекомендации.
– Как вы думаете, Сергей Юльевич, если я приглашу его в товарищи? – спросил Сипягин.
– Наверное, Дурново должен отлично знать министерство, а вам необходимо иметь умного и деятельного товарища, – ответил Витте, – но я бы не советовал поручать ему дела полиции и вообще такие дела, в которых есть вещи неконтролируемые, делаемые не при свете дня.
Сипягин, поняв намек, коротко ответил:
– Это я знаю.
Вскоре после этого разговора Дурново и генерал-майор князь Святополк-Мирский были назначены товарищами (заместителями) министра. Последний был командующим корпусом жандармов, и в его ведении был Департамент полиции, так как министр делами департамента не занимался. Дурново поручили скромный участок – почты и телеграфы.
Был еще товарищ министра – князь Оболенский. С ним Сипягин был на «ты», но не доверял ему – уж очень было видно, что тот мечтает сделать карьеру и стать министром.
Сипягин помог Дурново выкрутиться из старой истории, выделив ему деньги из секретных сумм Департамента полиции. Так тот покрыл свои потери на бирже. Поддерживал Сипягин Дурново потому, что тот против министра не интриговал.
А вот Оболенский интриговал, и еще как! Особенно тогда, когда министр болел и Оболенский ходил на личные доклады государю, рассчитывая произвести на него впечатление.
Дурново был уверен, что понравиться государю – это еще не все, надо, чтобы кандидатуру поддержали и те, кто имел на государя влияние, потому что должность министра внутренних дел в правительстве особая, к ней все относились с большими претензиями.
После Сипягина пришел Плеве.
После Плеве министром стал князь Святополк-Мирский.
И при всех министрах Дурново вел себя корректно. Он был умным, выжидал, не спешил, зная, что часто выигрывают те, кто не слишком торопит события.
Дурново вел себя в высшей степени корректно, высказывал разумные мысли. Этим он производил впечатление на графа Витте и преуспел. Витте предложил Петру Дурново пост министра в своем правительстве, считая, что нашел себе хорошего помощника.
О своем выборе он позже сожалел. Так и сказал:
– При тех обстоятельствах, в которых я позже очутился, в этом назначении состояла одна из моих существенных ошибок, значительно способствовавшая ухудшению и без того трудного моего положения как председателя Совета министров.
Потом ушел со своим правительством и Витте. Его сменил Горемыкин, также имевший кандидатуру на должность министра внутренних дел, но у государя оказалась своя. Оставлять Петра Николаевича министром он не хотел, потому что в нем разочаровался: с октября 1905 года по апрель 1906-го Дурново так и не навел в государстве порядка.
– Конечно, у нас много профессионалов, – заметил государь, – но дела от этого лучше не становятся. Видимо, министром должен стать умный и энергичный человек, который смог бы активизировать деятельность министерства.
Тут и всплыла кандидатура Столыпина. Кандидатур было предложено государю несколько, но он остановился именно на ней, потому что по возрасту саратовский губернатор был самым молодым и, как рассуждал царь, самым энергичным.
Он советовался с матерью, вдовствующей императрицей. Та его выбор одобрила. Им нравилось, что Петр Аркадьевич из знатного рода, честно служившего самодержавию.
– И я думаю, что не ошибся, – заключил переговоры Николай II.
Наверное, это был один из немногих удачных выборов, сделанных Николаем II за годы своего царствования.
Очередная интрига вокруг правительства закончилась. В министерстве внутренних дел появилась «новая метла».
Здравствуй, Санкт-Петербург!
Когда провинциалы переезжают в столицу, она их поражает своим величием, пугает своей энергией. Впервые увидев трамвай, большую электрическую коляску, провинциал шарахался в сторону.
Столыпин и его супруга в столице бывали, на трамвае катались и с улыбкой смотрели, как удивляются столичному образу жизни их дети.
В воспоминаниях старшей дочери Столыпина Марии мы читаем о тех днях: «Сам Петербург меня с первого же дня очень разочаровал: мрачным, ненарядным, недостаточно „европейским“ показался он мне после Берлина и Вены, а вместе с тем, что не было в нем и восточного великолепия Москвы. Лишь позднее оценила я красоту нашей столицы: „Невы державное теченье“, сказочно легкие очертания Петропавловской крепости в морозном тумане вечерних петербургских сумерок».
Наконец-то прибыла из Саратова в столицу мебель в казенную квартиру министра внутренних дел на Мойке.
– Мы будем жить на Аптекарском острове, на даче, – оповестил глава семейства своих домочадцев.
На даче охрана была поставлена намного лучше, чем в Саратове. Оно и понятно, ведь в Саратове полиция охраняла губернатора, а здесь своего непосредственного начальника – самого министра!
Как-то Мария пошла в церковь, расположенную за садом. Возвращаясь, подошла к калитке, чтобы открыть ее, как откуда ни возьмись полицейский:
– Ты куда?
– Как куда? Домой!
– Куда это домой? – строго спросил охранник.
– На дачу к своим родителям!
– Ты хочешь сказать, что ты дочь министра? Так мы тебе и поверили! А ну иди за мной!
И охранник отвел дочь Столыпина в участок, который находился через несколько улиц. Завел в комнату с канцелярскими столами, где сидели сотрудники в строгих мундирах, чтобы разобраться, кто же эта девушка. Вдруг один из офицеров, узнав дочь министра, выскочил из-за стола и подбежал к Марии.
– Извините полицейского за такое рвение! Больше подобного не повторится!
Офицер сам проводил девушку до злосчастной калитки и, вновь извинившись, просил родителям об этом случае не говорить.
Когда дочь все же рассказала за завтраком, что с ней случилось накануне, родители рассмеялись.
– Видишь, какая у нас теперь охрана! – заметила мать.
– Да, ее не проведешь! – сказал довольный отец.
– А я не хотела бы жить под такой охраной, – высказалась дочь, – ведь это так скучно – не сад, а настоящая тюрьма.
Родители ничего не ответили, словно не слышали, и перевели разговор на сетования Казимира, семейного слуги, которого с иронией восприняла местная прислуга. Казимир служил Столыпиным с малых лет и называл их всегда «Петр Аркадьевич» и «Ольга Борисовна», а казенная прислуга – лакеи, швейцары и курьеры, прислуживающие на казенной даче, – обращалась к хозяевам только со словами «ваше превосходительство». Здешние порядки Казимира удивили.
Но не по этому поводу смеялись Столыпины, а совсем по другому. Местный лакей, привыкший к большим сановникам, поинтересовался у Казимира:
– А где же лента у его высокопревосходительства?
– А у Петра Аркадьевича ленты никакой нет, – ответил Казимир.
– Он разве не генерал?
– Нет, пока не генерал!
– Неужели такой молодой? – спросил лакей. – Сколько же ему лет?
Лакея смутило, что молодой чиновник, к тому же не имеющий орденской ленты, занял место на их даче. Прежде такого никогда не бывало.
Чтобы выйти из неловкого положения, Казимир заметил:
– Петра Аркадьевича сам государь назначил. Он еще столько орденских лент получит, сколько вашим генералам и не снилось!
Переборщил, конечно, Казимир, ведь на даче на Аптекарском острове и раньше поселялись только министры, а назначал их, естественно, сам государь.
Конечно, лакеи на Аптекарском острове газет не читали, больше жили слухами и обрывками фраз, которые схватывали на лету. По фразам они четко определяли табель о рангах, были в курсе всех событий, происходивших в столице, и лучше Казимира знали, кто такой Столыпин и почему государь перевел его из провинции в Петербург, сделав на молодого чиновника ставку. Знали и то, что министр внутренних дел в правительстве второй человек после его председателя. Наверняка лакеи и швейцары, осведомленные во многих вопросах, хорошо разбирались и в делах житейских, ибо служили не только господам, но и полиции.
* * *Новый министр получил приглашение на торжественное открытие Думы.
Принятый выборный закон дал России Первую Государственную думу. Она оказалась более левой, чем того ожидали власти. Ее стали называть думой «народного возмездия».
Дума была кадетской. Если бы конституционные демократы действовали с умом и обладали некоторым благоразумием, Дума прожила бы дольше. Вспомним, что говорил государь:
– Если создание Думы пойдет на пользу Отечеству, я ее разрешу!
Парламент в России был явлением доселе неизвестным. Большинство относилось к нему настороженно. Одних решение о созыве Думы обрадовало, других – а таких было большинство – разочаровало. Многие смотрели на нее, как на ненужную инстанцию, и предрекали разногласия и бедствия.
Дума зарвалась, забыв, что царь пошел на уступки не по велению разума, а под давлением общества и революционных событий, чтобы выпустить пар из котла. Царь был уверен, что собрание народных представителей поможет правительству навести порядок и мир, удовлетворив лишь разумные требования общества. Неразумные, считал он, удовлетворять нельзя.
Депутаты рассуждали иначе: за первой уступкой от царя они намеревались добиться других, подняв тем самым значение русского парламента. Стали звучать речи, разочаровывающие государя. Депутаты требовали отмены смертной казни, отчуждения частновладельческих земель, отставки правительства и упразднения Государственного совета. Началось то, чего так опасались противники либерального течения, настаивавшие на жестких мерах. Наверное, так и случилось бы, если бы в прежние годы не вспыхивали восстания и забастовки, не была пролита кровь. Еще чувствовался запах гари и пороха – власть вынуждена была выслушивать крикливые требования депутатов.
– Ничего, угомонятся, успокоятся, образумятся, – надеялись в верхах.
Не угомонились, не успокоились, не образумились. Напротив, требования в Думе стали более настойчивыми и озлобленными. Стало ясно, что от смутных призывов, звучавших на всю страну с кафедры Таврического дворца, спокойнее не станет.
…А тогда, в день торжественного открытия Думы, все выглядело иначе. Под восхищенными взглядами собравшихся к Таврическому дворцу подъехали государь в окружении свиты, депутаты в каретах. Чувствовалось: что-то необычное и знаменательное происходит в столице.
Новый министр внутренних дел прошел в зал, оглядывая собравшихся. Блестели мундиры придворных чинов, с ними контрастировали скромные цивильные костюмы депутатов. Один из придворных сановников, глядя на собравшихся в зале, обратил внимание на эту разницу и произнес в порыве откровения:
– Какие вопиющие различия! Смогут ли эти люди найти общий язык?
Столыпин хорошо запомнил эту фразу. Он подумал еще, что ради спасения государства просто необходимо, чтобы все собравшиеся на торжество поняли друг друга.
Почти все газеты утверждали, что прибытие царя имело историческое значение, так как это был первый и единственный выход государя императора к представителям народа как верхней, так и нижней палаты.
Государь был бледен, но довольно спокоен. Выступая, он произнес знаменательную фразу, тоже вошедшую в историю:
– Да исполнятся горячие мои желания видеть народ мой счастливым и передать сыну моему в наследие государство крепкое, благоустроенное и просвещенное.
Намерение было хорошее, но, как известно, не все намерения осуществляются.
Дума во многом разошлась с государем. Камнем преткновения стал вопрос о земле. Столыпин внимательно прислушивался к дебатам не только потому, что тема интересовала его, но и потому, что у него были на сей счет интересные мысли. К сожалению, в ведении министра внутренних дел были другие проблемы и ему больше приходилось наблюдать, как проходят прения в правительстве.
Наиболее консервативные государственные деятели верили, что оплотом консерватизма является именно крестьянство. Потому и состав первой Думы оказался преимущественно крестьянским. Но крестьянство – если не все, то основная часть его – поддерживало идею принудительного отчуждения земли в свою пользу, намереваясь провести ту самую меру, которую провел Александр II при освобождении их сословия.
Правительство было против.
Многие понимали: нашла коса на камень.

