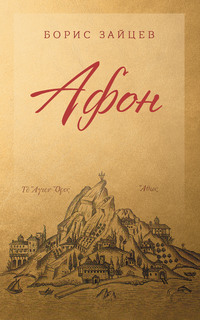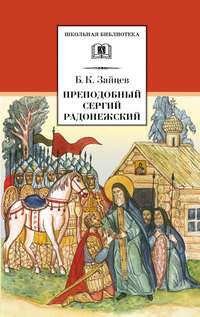Полная версия
Далекое
Собрания эти происходили часто, раз в неделю, а иногда и дважды: значит, интерес был большой. От шести до десяти вечера заседали, читали произведения свои, переводы из иностранных авторов, обсуждали, спорили. Прокопович-Антонский всегда присутствовал. Иногда приглашал и знаменитостей литературы – Карамзина, Дмитриева.
Окончив, ученики шли ужинать – ужин для них подавался отдельно, позже. Разговоры и споры продолжались за ужином, а затем в спальнях. Спать, может быть, и мешали. Но как возбуждали, в высокую сторону, юные души!
Сохранился документ, касающийся жизни юнцов этих. (Старобельский мещанин Коханов спас в Харькове в мелочной лавке от рук лавочника протокол одного заседания юношеской Академии 18 мая 1799 года.)
«Председатель В.А. Жуковский (ему шестнадцать лет) открыл заседание речью «О начале обществ, распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу». Потом читали стихи воспитанника Лихачева «Ручеек» – передали на отзыв. Жуковский «внес, сверх месячных работ, перевод из Клейста, в стихах», некто Поляков тоже отрывок перевода. Жуковский читает замечания свои на сочинение секретаря Родзянки: «Нечто о душе». Возникает обмен мнений. С некоторыми замечаниями его соглашаются, с некоторыми нет. А в заключение Александр Тургенев читает Державина «Россу по взятии Измаила».
…«Председатель В.А. Жуковский назначил очередного оратора, чем и кончилось заседание».
* * *Жуковского времен пансиона можно представить себе юношей тоненьким, изящным, с вьющимися волосами, очень миловидным и благовоспитанным. Как и все вокруг, а вернее, даже больше товарищей, ведет он жизнь труда. В пансионе встают в 5 утра, в 6 уже за повторением уроков, в 7 на молитве и так далее, классы, занятия весь день с большой точностию, до 9 вечера, когда «после ужина и молитвы» предписано «спать ложиться благопристойно, без малейшего шума». Все вообще в пансионе «благопристойно»: не ссориться, не шуметь, быть вежливым, законопослушным.
Это для него и нетрудно – как раз таков склад его душевный, с добавлением истинной, врожденной скромности.
Не видно, чтобы мечтательность мешала тут занятиям его учебно-литературным: надо думать, что в них было нечто, утолявшее и мечтательность, и фантазию – всё учение и все выступления в Собрании воспитанников вращались ведь вокруг литературы и искусства.
Как и в Мишенском, находился он здесь в не совсем естественном положении. Товарищи его – вплоть до ближайших друзей Андрея и Александра Тургеневых, принадлежат к крупному русскому барству. Все это – старое дворянство, с вотчинами, крепостными, более чем обеспеченной жизнью. Вопроса материального для этих юношей нет. Предки их давние и всем известные. Жуковский происхождения сомнительного, «усыновленный» маленьким дворянином. Платят за учение его Бунина и Юшков, денег карманных у него мало. В этом он один из последних в пансионе. Приходится подрабатывать переводами. Правда, снобизма в заведении не было. И к счастию, жизнь его так сложилась, что внутренней стесненности не оказалось, самолюбие не задето. Не видно, чтобы он страдал от своей относительной бедности и незнатности. Товарищи его любили. Культ дружбы вообще начался для него с этого пансиона.
Духовная же его одаренность всеми ценилась и признавалась. Сверстники выбрали его председателем, начальство поручало ему и Костомарову даже некоторое водительство над учениками. Им предписывалось, чтоб они давали вечерние молитвы «лучшим из старшего возраста». Чтобы читались избранные места из Св. Писания и других нравственных книг. Тут же указывалось: «Утренние и вечерние размышления на каждый день года» протестантского проповедника Штурма, «Книга премудрости и добродетели» Додслея. «Все сие послужит к величайшей вашей пользе, к назиданию вашего сердца».
Жуковский читал, значит, и сам, и другим мистические толкования Христофора Христиана Штурма, одного из последователей Клопштока. Это – хвалебные гимны Творцу. Величие Бога в природе: гусеница, муравей, «обыденная муха». Жизнь моя, красота лугов, гром и т. п. – все проявление и обиталище Бога. Книга Додслея также проникнута религиозно-мистическим духом.
Если представить себе общий облик духовный Жуковского, на протяжении всей его жизни, то вполне можно думать, что именно эти чтения мистиков, в раннем и нежном возрасте, залегли глубоко, вошли чуть ли не основным в окончательное сложение его души.
* * *Наибольшая слава того времени, разумеется, Державин. Подоблачное, поднебесное, откуда летят громы, голос трубный, скорее природно-стихийный, чем человеческий. Слог крупнозернистый. Все мужественно, прямо, сильно, иногда дико, иногда путано, в общем величественно, масштаба перворазрядного. Легче удивляться ему, чем любить. Для скромного мальчика Жуковского это некоторый Синай, перед которым он благоговеет, чью оду «Бог» переводит на французский язык, к самому же Синаю относится со священным ужасом. Но это не его мир. Сам он иной закваски. Из другой породы душ. Державинско-екатеринское, век «орлов» и прямолинейного грандиоза отходил. Карамзин более выражал эпоху. Карамзин мог сесть вечером на берегу Эльбы под Дрезденом и, созерцая заход солнца, вдруг от умиления заплакать. Но он выразил в России новый уклон души – на Западе проявившийся уже и раньше.
К сердцу, душе человека, мимо громов, побед, государств, космоса – к великому космосу сердца – уклон вглубь. На него юный Жуковский сразу откликнулся. Это свое для него, родное и дорогое. Державину благоговение, самому жить в воздухе Карамзина, карамзинистов.
Оду свою «Благоденствие России» он читал в пансионе в 1797 году – ему было четырнадцать лет. Произведение, разумеется, детское. Внешне – из владений Державина: восхваление Павла, в тоне напряженно-возвышенном. Есть строки, прямо Державина напоминающие («Зиять престали жерлы медны»), но пропето все голосом иным, и не в том дело, что голос этот еще слишком юный и не установившийся, а в том, что выражает он совсем иную душу. Для нее не «жерла» характерны, а –
С улыбкой ангельской, прелестной,В венце, сплетенном из олив,Нисшел из горних стран эфираСын неба, животворный мир.Певец, так поющий, никогда по державинскому пути не пойдет.
Рядом, того же года, мотив и иной, совсем уж духа интимного. По форме – первый намек на летучий, сквозной строй Жуковского взрослого. Это «Майское утро».
Бело-румянаВсходит заряИ разгоняетБлеском своимМрачную тьмуЧерныя нощи.Подымается солнце, воздадим хвалу жизни, посмотрим, как бабочки вьются, пчелы летят, все живет и все дышит («да будет» всему Творению, как и у Штурма, всегдашнее благословение Жуковского) – но дальше горлица стонет по погибшем друге. Меланхолический звук заканчивает стихотворение:
Жизнь, мой друг, безднаСлез и страданий…Счастлив стократТот, кто, достигнувМирного брега,Вечным спит сном.В «Майском утре» этом есть, конечно, Дмитриев, тот известный в свое время сладковато-изящный карамзинист Дмитриев, лирик и баснописец, важный сановник и впоследствии министр, который бывал в пансионе на Собраниях воспитанников, слушал молодого Жуковского, одобрил его, пригласил к себе и ободрил. Дмитриевский «Стонет сизый голубочек» в Жуковском засел не напрасно, как и все карамзинское. Если это еще подражание, то уже показавшее в полуребенке легкого и нежного музыканта слова.
Замечательно, что уже в ранних, ученических стихах Жуковского черты будущего его облика во многом означены. «Добродетель», «К Тибуллу», «К человеку» – стихи несколько более поздние. Во всех них одно: да, мы мгновенны, смертны, «вся наша жизнь лишь только миг», «в тени ветвистых кипарисов брожу средь множества гробов», «Тибулл, все под луною тленно» и т. п. – но над всем высшее и оно побеждает. Смерть не последнее. Она преодолевается (для Жуковского этого времени) силою нравственной:
Тогда останутся нетленныОдни лишь добрые дела.И еще позже, в 1800 году:
Любя добро и мудрость страстно,Стремясь друзьями миру быть,Мы живы в самом гробе будем.Важно не то, как именно решает юноша мировые вопросы, важно устремление его души: преодоление смерти. Всегда, с ранних лет, при веселом и живом характере, подверженном, однако, приступам меланхолии, ощущал он остро бренность жизни. И всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти.
* * *Его первые шаги в литературе не были трудны. Печататься он начал очень рано, с четырнадцати лет, и без усилий. Сохацкий и Подшивалов издавали журнал «Приятное и полезное препровождение времени» – там помещались и лучшие из писаний молодежи Благородного пансиона. Жуковский, глава и председатель Собрания воспитанников, легко принят был сотрудником. Правда, в этом было еще нечто детское («Мысли у гробницы» появились с подписью: «Сочинил Благородного унив. пансиона воспитанник Вас. Ж.») – все же это начало литературы, открывающаяся дорога. Пансион и тут ему помогал, да и вообще шаг Марьи Григорьевны, поместившей его сюда, оказался для всей его жизни решающим. Он возрастал в тишине и труде, в воздухе культуры, любви к поэзии. Это было важнейшее, важнее самих наук, усердно им изучавшихся. В пансионе была своя атмосфера, ею он и напитывался, с ней приезжал летом в Мишенское – там гость и брат дорогой дли всей юной женской части населения. Девицы Юшковы и Вельяминовы обожали его – десятилетняя Дуня Юшкова, позже Киреевская, мать известных славянофилов бр. Киреевских, писала ему в пансион, называя «Юпитером моего сердца». Приезжая из Москвы, начиненный возвышенностями и прекраснодушием, он читал им и собственные писания, и произведения Фонтенелля, Бернардена де с. Пьера и др. Был это, разумеется, для деревни некий духовный пир.
А в Москве сам он, через тот же пансион, вошел в общение с замечательными людьми, глубокий след в нем оставившими.
У директора университета Ивана Петровича Тургенева бывал Жуковский запросто, «по воскресеньям приходил читать переведенные украдкою по четыре пьесы вдруг». Это потому вышло, что с сыновьями его, Александром, учившимся в пансионе в одном с ним классе, и с Андреем, студентом университета, он вел близкую дружбу. О Тургеневе же отце сохранились у него воспоминания светлейшие.
Еще гораздо больше значила дружба с Андреем и Александром – это просто часть его внутренней жизни, воспитание лучших, чистейших свойств.
Андрей был старше его, крепче, мужественнее, с характером кипучим, по складу, видимо, поэт. Александр мягче и сентиментальнее, раскидистей и беспорядочней. Андрей более центр кружка молодежи тогдашней, коновод, собственным путем идущий, других за собой увлекающий. Он задает тон, утверждает литературные вкусы. Для Жуковского он на первом месте. Александр на втором. Очень одарен, переменчив, сосредоточиться трудно, нечто от дилетанта в нем, но доброта и очарование огромные. Этот – на всю жизнь, сорок с лишним лет, до самой смерти переписка. Плющ вокруг древа – так вместе и прожили, с пансионских времен.
Через тот же пансион познакомился он с Карамзиным, к которому благоговение сохранил на всю жизнь. Оттуда же и знакомство с Дмитриевым – тот выслушивал его стихи, делал замечания благосклонные, поддерживал. Дмитриева называл он впоследствии своим учителем – главнейшем в мастерстве стиха, а Карамзина «евангелистом» – этот как бы открывал ему самому его душу.
В 1800 году Жуковский блестяще окончил пансион, имя его было записано на золотую доску. Прокопович-Антонский весьма к нему благоволил: выйдя из пансиона, Жуковский даже жил у него некоторое время в маленьком белом флигеле у входа в дом Шаблыкина, что в приходе Успения на Овражке.
Поэт
Александра, Андрея Тургеневых, других юношей дружественных, как братья Кайсаровы, Блудов, несла среда, их взрастившая. Кончил учение – сразу в «архивные юноши», Министерство иностранных дел (тогда называлось: Иностранная коллегия). Открытая дорога к власти, почестям, сановничеству. Тетушки, дядюшки опекают по службе, крепостные крестьяне трудятся в поместьях, чтобы гладко шла юная жизнь.
У Жуковского такой гладкости не могло быть. Предстояло решать, чем же зарабатывать. Стихами не проживешь. Переводами для книгопродавца Зеленникова тоже. Он избрал нечто скромное, в скромности своей даже безнадежное: поступил в «Контору соляных дел», на очень маленькую должность канцелярского служащего. Занятие не из трудных, но уж слишком ничтожное. Он находился там под начальством князя Долгорукова, который уже имел о нем представление как о даровитом молодом поэте. Чиновника из него, разумеется, не вышло, служба скользнула бесследно. Позже он заметил о ней кратко: «…Я вошел в главную дурацкую Соляную контору городским секретарем в 1800 году, вышел из нее титулярным советником в 1802». Нельзя, однако, сказать, чтобы жизнь его за эти полтора года была пуста. Напротив, как приготовление, даже плодотворна. «Ты, кажется, не можешь не быть доволен своей участью, – пишет ему Тургенев, – уединение, независимость, легкая служба… Окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце – жар поэзии!»
Вне канцелярии – под знаком дружбы и литературы прошло это время. В 1800 году основалось в Москве избранною молодежью Дружеское Литературное Общество. Его столпы – Андрей Тургенев, Мерзляков, Жуковский. В него входят и студенты университетские и воспитанники Благородного пансиона. Получился целый кружок – кроме главарей – братья Кайсаровы, Родзянко, Журавлев и еще другие, среди них странный и жуткий тип, странным образом затесавшийся к юношам-энтузиастам и сентименталистам: Воейков, циник и насмешник, хромой, некрасивый, ядовитый, чем-то прикидывавшийся, чем-то, до времени, их юное прекраснодушие обманывавший. На Девичьем поле был у него свой дом, особняк, там летом 1800 и 1801 годов устраивались пирушки сочленов Общества – собрания, их участникам запомнившиеся по-хорошему. О них писал Андрей Тургенев, вспоминая и ветхий дом, и глухой дикий сад, являвшийся убежищем друзей, которых соединит Феб. Там давали они обеты вечной дружбы и любви к родине. Мерзляков говорит о ненастных сентябрьских вечерах, когда скрипели от ветра старые березы, а они –
С любезной трубкой и виномРодные песенки певалиИ с бурей голос соглашали.Все это – в тоне возвышенном. Не просто встречи молодежи, а молодежи, к чему-то стремящейся, ищущей в духовном и литературном мире. Для Жуковского это как бы продолжение подготовительных годов, воспитание вкуса, ума, чувств. В этом Дружеском Обществе от Андрея Тургенева получает он первые, вероятно, толчки в сторону германской поэзии, медленно до него доходившей и такую важную роль сыгравшей впоследствии.
Здесь же крепнет культ дружбы – тоже для него сила огромная.
Но все это кратко. Жизнь их разводит, Андрей Тургенев уезжает в Петербург, брат Александр и А. Кайсаров за границу, в тот Геттинген, откуда молодые люди того времени выходили «с душою прямо геттингенской». Там будут они насыщаться германской наукой и входить в воздух германского романтизма и литературы. Жуковскому же неуютно в Москве, в Соляной конторе, без Дружеского Литературного Общества, с одним князем Долгоруковым и его снисходительным поощрением. До какой-то минуты все это терпится. Но для юноши «с демоном», как Жуковский, долго тянуться не может. Вот он складывает чемоданы – в них рукописи, в них собрания сочинений Шиллера, Гердера, Лессинга, да много другого, французского еще вроде Флориана, Жанлис – и в апреле 1802 года, по просыхающим российским дорогам, при зелени нежной, весенней, грачах на полях, жаворонках в небе – домой, в Мишенское. Что будет дальше, неведомо, но надо учиться, писать, работать. К Оке, Белеву, поэзии. В Мишенском многое переменилось. Старого Афанасия Иваныча давно нет. Марья Григорьевна, как и прежде, глава семьи, почитаемая «бабушка». Девочки же полуплемянницы (Юшковы, Вельяминовы) стали девушками, чувствительными, изящными. Как и матери их, они образованны и начитанны, поклонницы Руссо и Карамзина, склонны ко вздохам и туманной меланхолии. (Барышня того времени, нервная и восторженная, у которой умер отец, – в душевном волнении, чтобы достаточно выразить горе, могла же сбежать в подмосковную деревню и там водвориться у знакомых «поселян», захватив с собой Библию и Руссо: ненадолго, разумеется.)
Мишенское для Базиля не дурацкая Соляная контора. Здесь живет он среди милых сверстниц родственных, среди книг, полей, лугов, холмов приокских. Ничто не указывает на грубость или распущенность быта мишенского – стиль Афанасия Иваныча отошел. Никаких псарей, выпивок, похождений. Царство женщин, и в высоком духе. Гений-хранитель ведет юношу путем чистым, вдали от соблазнов крепостной жизни. Он и вообще как бы вне ее. Полон внутренним своим – тем живет. Иногда весел, иногда грустит. Ведет жизнь поэта и ласкового сверстника барышень. Как и во времена вакаций Благородного пансиона, читает им вслух. Как и тогда, новое, возвышенное, одушевленное идет в деревенский угол именно от него, образованного и изящного Базиля. Но, конечно, он и к одиночеству стремится, уходит и сам к какому-нибудь Гремучему ключу, «сочиняет» стихи, есть даже «холм» его любимый, где он этим занимается: барышни все высмотрели и знают.
Демон не зря уводил его из Конторы соляных дел. Наступал час прорыва плотины – жуткий для юноши и решающий час. Стихи в Благородном пансионе, оды на актах – это все еще полудетское. Роковое лишь начинается.
Оно состоит в том, что наконец силы молодости прорываются целиком. Они несут стихийно, как любовь, страсть. Они выражают, вне его воли, создавшийся облик поэта, еще юношеский, но уже ответственный. С «этого» начинается Жуковский, остающийся в литературе.
Раньше ученик, теперь молодой художник. Он взял для начала своего чужое – элегию Грея, английского сентименталиста середины XVIII века. Эта элегия не со вчерашнего дня его тревожила – подымала органическое, стихийное. Он ее и ранее перевел. Но тогда не был еще готов. А теперь время пришло. Опять за нее взялся, она его возбудила, он перевел-претворил заново, в не своем свое выразил.
Уже бледнеет день, скрываясь за горою:Шумящие стада толпятся над рекой;Усталый селянин медлительной стопоюИдет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.Как будто и прежнее, но сказано иным голосом, уже взрослого. Элегия длинна, певуча, есть в ней нежное колыхание стихов и все овеяно меланхолией чистой и прекраснодушною. На деревенском кладбище спят «поселяне», люди безвестные, но, может быть, и неведомые гении, так и ушедшие, не проявив себя, – как уйдет и сам юный певец кладбища этого, томно бродящий и близ реки и близ ивы, –
Он кроток сердцем был, чувствителен душою…Кладбище воспевал английское, но по русским полям бродил легкий певец, легкокрылый какой-то, с вьющимися от природы волосами, мечтательными глазами. Забирался на взгорье, недалеко от Оки. Там вздыхал, может быть, «проливал слезы» – и сочинял. Девушки-сверстницы из Мишенского любили имена мифологические. Называли этот «холм» – Парнас.
Однажды Базиль и принес с Парнаса свою элегию. Прочитал им вслух. Вызвал всеобщий восторг. Произведение было послано Карамзину. Карамзин автора знал и благоволил к нему. Издавал в Москве «Вестник Европы», первый, лучший тогдашний журнал. Карамзин – старший и уже знаменитый, но и свой, родной, тоже «чувствительный». Как-то он отнесется? Что скажет? Прежний перевод Жуковского не очень ему нравился…
Тут Базиль не мог бы пожаловаться на одиночество: все Мишенское, вся молодая и чистая, такая светлая девическая его часть была с ним. Вместе надеялись, вместе волновались и ждали. Ответ Карамзина был ясен. В VI кн. «Вестника Европы» на обложке его розовой стояло: «Сельское кладбище». Подпись полная – уже не «воспитанник Благородного пансиона…», а просто фамилия, несколько иного даже начертания: Жуковский, а не Жуковской, как раньше. Это был уже тот Жуковский, который входил в русскую литературу, чтобы занять в ней свое место.
Девушки были в восторге. Радость всеобщая. Их поэт, свой с детства – признан, как же не радоваться.
Карамзин тоже почувствовал, что восходит новая звезда. Через несколько времени, в статье о Богдановиче, он приводил стих из «Сельского кладбища» как образцовый.
* * *Владимир Соловьев находил, что лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белева из легких строф молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским – Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот – воздыхание, нежное томление, элегия и меланхолия. Откуда взялось все это у Жуковского, светлого и совсем не болезненного?
Разумеется, много тут от самого духа времени. Загадочно сложение человеческих душ. Несомненно, что тогда по вершинам российским прошло дуновение меланхолии, чувствительности, обостренной отзывчивости на трогательное и печальное. Жуковский – сын своего времени, его выразитель. Иначе быть не могло.
Но и собственная жизнь отозвалась. Нельзя думать, что уж так идиллически-ясно прошло детство его и юность. Странное положение в семье (да и в обществе) давно было шипом внутренним. Его не обижали, воспитывали и учили, считалось, что любят. Но, видимо, недостаточно. Как-то с прохладцею, может быть, и снисхождением. Ему же хотелось большего.
В дневнике его 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними вырощен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия, и потому, что всякое участие казалось мне милостию. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем».
«Не был любим никем» – это преувеличение. Но ему так казалось, и это мучило. Что Марья Григорьевна, что крестная Варвара Афанасьевна, что другие сводные сестры могли его полулюбить, прохладно и покровительственно, это понятно. Но родная мать? Та самая Елизавета Дементьевна, бывшая Сальха, которая до могилы так с Буниными и оказалась связанной?
С матерью не совсем ладилось у него тоже. Детские его письма, кроме почтительности и послушания, не говорят ни о чем. Почтительным и послушным остался он навсегда. Но этого ему мало. «Самое общество матушки, по несчастию, не может меня делать счастливым: я не таков с ней, как должен быть сын с матерью; это самое меня мучит и мне кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи».
Слишком уж они разные. Слишком она ключница, для нее Бунины благодетели. Он же поэт и ее незаконный сын (хоть незаконный, но сын). И в этой юной полосе жизни, после дурацкой Соляной конторы, в милом Мишенском все же нечто отравляет ему отношения с матерью. Елизавета Дементьевна при господах даже сесть не может – вечное напоминанье о неправильности и ее, и его положения. Это угнетало за нее. А за себя – ранило молодое самолюбие.
Для Тургеневых, Кайсаровых, Блудовых будущее бесспорно. Для Жуковского крайне туманно. Игра молодых сил, неясность положения, фантазия, чувствительность, все извлекает из души, даже помимо устремления эпохи, звуки томно-меланхолические. Смерть, разлука, любовь к другу, собственная судьба – все так остро в такие годы. Все еще только слагается, взгляда на мир прочного нет, а живое сердце, горячее, смутно предощущает уж горести, бездны, величие бытия. Бытие же само предлагает примеры грозных своих дел.
В грусти «Сельского кладбища» многое было от эпохи, но вот и сама жизнь выступает. Блестящий Андрей Тургенев, любимец отца, любимец приятелей своих, поэт, будущий деятель дипломатии русской – все как будто раскрыто перед ним в жизни – двадцати двух лет умирает внезапно, в июле 1803 года. («Распотевши поел мороженого» и через четыре дня скончался.)
«Дружба есть добродетель», – говорил Жуковский, опять выражая нечто от времени своего. Дружба тогда считалась священной, ей было поклонение. Все эти прекраснодушные молодые люди, до-пушкинские Ленские, были возбудимы необычайно. (Уехал в 1801 году Андрей из Москвы в Петербург. На другой день друг его, Андрей Кайсаров, заходит к его брату, Александру Тургеневу, желая утешить в разлуке с Андреем. Александр тотчас заплакал. Тогда Кайсаров «обнял его, как брата любезного моего Андрея, уговаривал его и сам заплакал». Он обнимает его и целует руки. Тот тоже плачет и целует Кайсарова. Входит старый Тургенев, отец Иван Петрович. Увидев, что они плачут, и сам заплакал. А ведь Андрей уехал всего только в Петербург.)
Андрея этого Жуковский просто обожал. Он любил очень и Александра, дружил с Мерзляковым, но откровенно сознавался им обоим, что к Андрею у него чувство выше, глубже, необыкновеннее… «Не будучи с ним вместе, я его воображал со сладким чувством… ему подавал руку с особенным, приятным чувством». Андрей на два года его старше. Он мужественнее, сильней. Заражает энтузиазмом своим, любовию к литературе, возвышенностью всего склада: Жуковский сам энтузиаст, но тихий. Андрей – проживи он дольше – мог быть и в дальнейшем его «руководцем».
И такой друг внезапно уходит. Можно себе представить, как это воспринималось. Плакали и целовали при отъезде в Петербург – как же ответить на вечную разлуку?