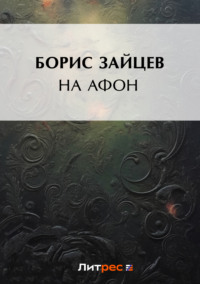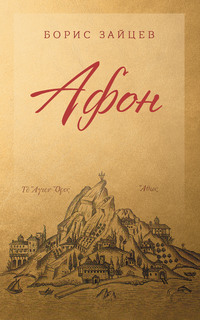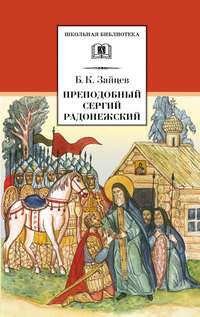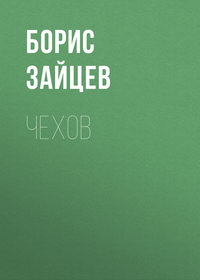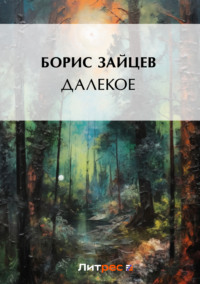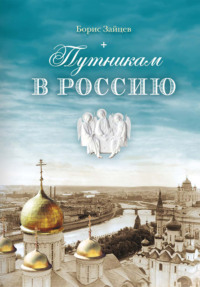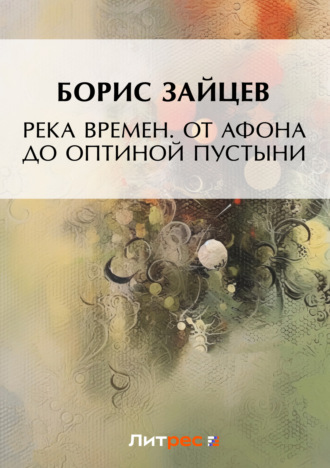 полная версия
полная версияРека времен. От Афона до Оптиной Пустыни
20 июня Достоевский уехал в Москву. Оттуда, вместе с Соловьевым, в Оптину.
* * *Время это было – особенный расцвет Оптиной: связано со старчеством отца иеросхимонаха Амвросия, самого знаменитого из оптинских старцев.
Человек это был явно необыкновенный. Необычайность его и в том состояла, что он будто был и обычный. В молодости преподаватель Липецкого духовного училища, просто себе учитель, нрава живого, веселого. Иногда грустил и задумывался – с кем этого не бывает, особенно в молодости? Но в общем, как все. И вот этот «обычный», гуляя однажды в лесу близ Липецка и подойдя к ручью, в журчании его вдруг явственно услышал: «Хвалите Бога, любите Бога».
Насчет монашества он решил не сразу, в конце концов попал в Оптину и себя нашел. Получилось так: перенеся тяжкую болезнь, уже лет тридцати, отец Амвросий навсегда остался слабым физически, но удивительно радостным, светлым и нежным душевно. «Монаху полезно болеть», – говорил он. В немощи его – сила. Эта сила – любовь и свет. Их нельзя скрыть. Они сами выходят, сладостно облекают приходящих.
Оттого и толпится у него народ в приемной скитского домика, в зальце с иконами, портретами архиереев, с цветником за окном. Оттого получал он до шестидесяти писем в день, с четырех утра отвечал сам на некоторые, на другие давал указания, как ответить.
Позже выходил, благословлял, беседовал, давал советы. Все принимал и всех. Особенно сострадал грешникам.
Наставлял, как изживать горе, но мог научить и как «кормить индюшек господских» – баба со слезами просила: «Все дохнут!» Ему говорили: «Батюшка, напрасно теряете с ней время!» – «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь».
Кроткими, прекрасными глазами читал он в душе и не об одних индюшках. Человека видел насквозь, многое предсказывал. Говорили, что иногда читал письма, не вскрывая их, и диктовал ответы. Дар прозорливости был у него велик, жизнеописание изобилует им.
К нему в Оптину и попал Достоевский в июне 78-го года. Пробыл в монастыре двое суток, все видел, все запомнил – об этом говорят и описания монастыря в «Братьях Карамазовых».
«С тогдашним знаменитым старцем отцом Амвросием, – пишет Анна Григорьевна, – Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе, при народе, и два раза наедине».
Вот где уж кровная, неизбывная связь «Братьев Карамазовых» с Оптиной пустынью, старца Зосимы романа со старцем Амвросием: связь в страдании и утолении его.
Вторая книга романа окончена в октябре 1878 года, через три месяца по возвращении из Оптиной. В главе «Верующие бабы» описан прием посетителей у старца Зосимы:
«– О чем плачешь-то?
– Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без двух только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детишки, не стоят, желанный, не стоят… Последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут передо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою…»
Старец утешает ее сначала тем, что младенец теперь «пред Престолом Господним, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты не плачь, но радуйся».
Но она «глубоко вздохнула». Ей нужен он сейчас, здесь, земное утешение ей нужно.
Земное – так чувствовал и сам Достоевский. Она продолжает:
«– Только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет, бывало, крикнет своим голосочком: «Мамка, где ты?» Только бы услыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, ножками-то своими тук-тук, да так часто, часто… Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда…»
Так говорит баба в «Братьях Карамазовых», жена извозчика Никитушки, и из-под печатных букв выступает кровь сердца Федора Михайловича Достоевского.
Тогда старец Зосима продолжает так:
«– Это древняя «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет», и такой вам, матерям, предел на земле положен».
Пусть она плачет, но не забывает, что сыночек «есть единый из ангелов Божиих».
«…И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего».
Вот это-то самое важное: горе – в тихую радость, горькие слезы – в слезы тихого умиления.
Но ведь только сказать, просто сказать страждущему – мало. Вот было у старцев оптинских, – у Амвросия, наверное, и особенно – нечто излучавшееся и помимо слова, некое радио любви, сочувствия, проникавшее без слов. Без него разве были бы живы слова?
Анна Григорьевна считала, что слова Зосимы бабе – именно то, что сказал старец Амвросий самому Достоевскому. Она мужа знала насквозь, обожала его, горе было общее, невозможно подумать, что она говорила легкомысленно.
«– А младенчика твоего помяну за упокой, как звали-то?
– Алексеем, батюшка.
– Имя-то милое. На Алексея человека Божия?
– Божия, батюшка, Божия, Алексея человека Божия!»
Достоевский вернулся из Оптиной, по словам Анны Григорьевны, «утешенный и с вдохновением приступил к писанию романа».
* * *Горе не напрасно. Стоны над мальчиком Алексеем не напрасны. Встреча с Оптиной в конце жизни, в зрелости дара более чем не напрасна: это судьба Достоевского.
Еще в «Идиоте» повеяло у него духом света. Князь Мышкин излучает светло-зеленоватые лучи – лучи надежды. Но там связано это еще с безумием. В набросках к «Карамазовым» Алеша именуется «идиотом». Но рядом с этим тянет Достоевского и к более ровному, прочному, трезвенному свету.
В письмах из-за границы он упоминает о желании побывать в русском монастыре. Монастырь и облик инока русского с некоторых пор стали все сильнее его занимать. Для «Карамазовых», при сопоставлении «да» и «нет», Бог и дьявол, подвижник стал необходим. На кого опереться? У кого свет неболезненный?
Все слагалось как надо: не умер бы мальчик Алеша, не был бы сражен горем отец, может быть, и не поехал бы этот отец с Соловьевым на лошадях из Калуги через убогий Перемышль в Козельск, на опушку брянских лесов, на реку Жиздру к старцу Амвросию. Или если бы и поехал, то в ином состоянии, просто как путешественник? А ведь так получилось, что внутренне между ним и бабой, женой Никитушки, разницы нет. Оттого и принял он в душу так полно и утолительно и образ монастыря, и образ старца Амвросия.
Младенец Алексей переселился в младенца бабы и далее, выше, в Алешу Карамазова. А этот Алеша теперь уже не «идиот» набросков, а милый и красивый, здоровый русский юноша с нежной и глубокой душой. Его брат Иван знается с дьяволом, исполняет его роль, но и погибает в безумии. Победители – Алексей и Димитрий, один в экстазе любви, другой в экстазе неповинного страдания.
А над всем облик старца Зосимы – как свет немеркнущий. Любовь, кротость и сострадание.
Если б не встретил его Достоевский лицом к лицу, если бы дважды наедине, как на исповеди, быть может, в слезах, как та баба, не изливал душу – не было бы таинственного заднего плана, полу невидимого, но чувствуемого, во всей части романа, посвященной старцу Зосиме.
Константин Леонтьев, барин, эстет, душа редкостной одаренности, жизнелюб и прожигатель жизни в духе языческом, но и отравленный иным миром, кончал дни при Оптиной. О Достоевском полагал, что христианство его «розовое». Сам был довольно суров. Ему бы все подсушить, «подморозить». Ему и на Афоне, где бывал, нравились больше облики властные, водители с железным посохом (Иероним). Да и само православие его с железным посохом. Но тогда, пожалуй, и старец Амвросий слишком мягок? Добр, сострадателен и снисходителен? Его тоже бы «подморозить»?
Достоевского пленил Амвросий. Конечно, в старца Зосиму он вложил и другое. Возможно, что упреки Достоевскому за Зосиму, – если смотреть на него, как на портрет Амвросия, – отчасти правильны («русский инок не совсем таков, крепче и мужественнее» – не один Леонтьев так считал). Главное, однако, остается. Зосима – христианнейший образ, в высшем смысле глубоко православный.
* * *Шестую книгу «Карамазовых» («Русский инок») Достоевский написал через год, летом 79-го года, в Старой Руссе, в трудных условиях.
«Я все время был здесь, в Руссе, в невыносимо тяжелом состоянии духа. Главное, здоровье мое ухудшилось… Все время писал, работал по ночам, слушая, как воет вихрь и ломает столетние деревья». Очень Достоевский: ночь, буря, одиночество, чувство недалекого конца и чувство, что создается великое, надо успеть его закончить – жить оставалось полтора года.
«Сам считаю, что и одной десятой не удалось того выразить, что хотел. Смотрю, однако, на эту книгу шестую как на кульминационную точку романа».
Точка высокая, но еще выше – заключительная глава седьмой книги («Кана Галилейская»); вся книга седьмая названа «Алеша». Она и ведет к победе. Она и две следующие, 8-я и 9-я, кончены к январю 1880 года – последнего в жизни Достоевского.
«Кана Галилейская» есть некое видение Алеши. По роману он послушник старца Зосимы, обожающий его. Но должен потом идти в мир, в монастыре не остается – в мир с деятельной любовью, по завету старца. Считал Достоевский, что напишет Алешу в миру в следующем романе. Но роман этот не дано было ему написать.
Старец Зосима скончался. Ждали чуда. Но его не было, а даже коснулось тела его обычное тление («тлетворный дух»). В монастыре смущены. Враги старчества и завистники Зосимы (а такие были) злорадствуют. Смущен сам Алеша.
Но вот вечером он в келии старца, где над гробом его отец Паисий читает Евангелие. Чтение это от Иоанна, знаменитая вторая глава: «…И в третий день брак бысть в Кане Галилейской…» Алеша слушает, обрывки мыслей проносятся в голове.
«И не доставшу вину, глагола Мати Иисусова к Нему: вина не имут»… – слышалось Алеше.
– Ах, да, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю, это Кана Галилейская, первое чудо… Ах, это чудо, это милое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос…»
Видение в том, что в какую-то минуту полубодрствования-полудремоты «…к нему подошел он, сухонький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уже нет… Лицо все открытое, глаза сияют. Как же это, он, стало быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане Галилейской…
– Тоже, милый, тоже зван, зван и призван, – раздается над ним тихий голос. – Зачем сюда схоронился, что не видать тебя? Пойдем и ты к нам». Голос его, голос старца Зосимы…
«– Веселимся, – продолжает сухонький старичок, – пьем вино новое, вино радости новой, великой…
Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его. Он простер руки, вскрикнул и проснулся».
Теперь выходит он из келии в темноту ночи уже другим человеком. «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо раскинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд…»
Тут-то вот и пал он на землю, пал Алеша и вместе с ним Достоевский. «Он не знал, для чего обнимал ее… неудержимо хотелось целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…» – прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем об этих звездах… Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за всё, и просить прощения…
Что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь, и на веки веков».
Это и была та гармония, над которой всю жизнь бился и мучился Достоевский. Она сошла на его героя теперь в мистическом озарении, заливая светом все противоречия, все бездны. Она явилась в скромном монастыре, пред лицом звезд, под веянье бора оптинского, в тихую ночь незадолго до земного конца.
* * *Из средневековья вижу лишь одну фигуру. Странник и изгнанник, пешком бредущий по тропинкам Казентина или Луниджианы, с рукописью «Божественной комедии» в мешке за спиной. На вечерней заре подходит ко вратам монастыря и стучит. Привратник высовывает голову:
– Что тебе нужно? Чего ищешь, странник?
– Мира.
Он искал также ночлега. И получил его. И позже, в монастыре Фонте Авеллана, в горах близ Урбино, написал некоторые песни «Рая», уложив их потом в тот же мешок.
В России XIX века три гения явились в Оптину тоже за словом «мир». Замечательно, что величайший расцвет русской литературы совпадает с расцветом старчества в Оптиной. Все приходили за утешением и наставлением. Гоголь тосковал, преклонялся к старцам в ужасе от своих грехов (собственно, в ужасе от своей особенной природы). Лев Толстой – поиски истины. Достоевский… – про него сказано уже, для чего явился. Леонтьев так и остался в Оптиной.
Великая литература, вовсе не столь неколебимая, как литература Данте, Кальдеронов, шла к гармонии и утешению на берега Жиздры, к городку Козельску.
Жизненно самый сильный след остался у Леонтьева, не гения, принявшего монашество и монахом скончавшегося.
У Толстого полная трагическая неудача.
Встреча с Оптиной Достоевского, кроме озарения и утешения человеческого, оставила огромный след в литературе. «Братья Карамазовы» получили сияющую поддержку. Можно думать, что и вообще весь малый отрезок жизни, оставшийся Достоевскому в жизни, отданный целиком «Карамазовым», прошел под знаком Оптиной.
Его жизнь кончалась вместе с писанием. В ноябре 1880 года последние главы «Братьев Карамазовых» были отосланы Каткову. 28 января 1881 года Достоевский скончался.
Последняя песнь «Рая» написана в Равенне в 1321 году. Это был последний год жизни Данте.
21 и 24 апреля 1956 г.
Река времен
За оградой небольшой холм, на нем храм, несколько немолодых простеньких домов. С улицы ведет ввысь тропинка-лесенка, а вокруг разрослись каштаны, вечно переливается листва их, тени пробегают по земле, зеленоватый полумрак, зеленая мурава по склону – так до самой церкви.
Это русский монастырь имени великого Святого[46]. В стране нерусской ведет он свою жизнь, вызванивают колокола, идут службы, в соседнем помещении юноши изучают богословие.
Немного не доходя до храма, в двух домах, нехитрых, по обеим сторонам дорожки, живут некоторые насельники из духовенства и светские профессора науки богословской.
В одном строении, от тропки влево, архимандрит Андроник, монах ученейший, автор трудов по патрологии. Прямо напротив, через дорожку, тоже во втором этаже, окно в окно с Андрониковым, – настоятель храма и прихода, архимандрит Савватий. Оба хоть и архимандриты, а совсем разные. Но в весьма добрых между собой отношениях. Андроник вовсе еще не стар, но с проседью уже, худой, высокий, несколько чахоточного вида, с огромными прекрасными глазами, молчаливый и всегда задумчивый. Савватий много старше, сильный, плотный, румяный, с ослепительно серебряной главой, бородой белейшею. Вид его столь внушителен, что он прозван Богом-Саваофом. Сколь учен Андроник, столь жизнен Савватий. Сколь книг у Андроника – любит он переплеты, ex-libris, столь много смётки житейской у Савватия – некогда управлял он в России даже церковным предприятием, а в средневековье мог бы собственноручно монастыри строить.
– Великой мудрости и познаний муж, – говорит об Андронике Савватий.
– Настоящий кондовый, коренной монах, – говорит о Савватии Андроник.
Из своих окон, через дорожку, перекликаются они иной раз, часто и бывают друг у друга.
Утро. Могучая, в седеющих волосах рука Савватия отворяет окошко, на подоконнике горшочек герани, вьющаяся зеленая «борода» спускается вниз. В прямоугольнике окна голова Микель-Анджелова Вседержителя.
– Хорошо ли почивали, дорогой отец архимандрит?
Савватий хоть и много старше, и к епископству представлен, и начальственно несколько выше Андроника в монастыре, но весьма уважает ученость и некий аристократизм соседа.
– Вашими молитвами, владыко. Пока жив. Только сон неважный.
И Андроник устало, задумчиво смотрит на седую бороду Савватия, поправляющего на груди наперсный крест.
– Я хоть и не владыка еще, но Первосвятитель митрополит изволил недавно подтвердить, что к осени вполне можно ожидать из Византии утверждения.
Архимандрит Савватий давно мечтает об епископстве. Но дело это длинное. У Константинополя – неизменно называет он его Византией – немало и своих дел. Не весьма торопится Его Блаженство.
– Знаю, знаю, дорогой авва, что сон ваш неоснователен. От чрезмерных трудов научных. Я нередко наблюдал свет поздней нощию в вашем обиталище. Иной раз подымешься на минутку, а вы всё над своими отцами Церкви. Я науку весьма уважаю, но и здоровье необходимо плотской природе нашей.
– Да, – говорит Андроник, – вот Пасха выдалась, хоть и поздняя, а и погода прекрасная, и службы, говорят, прошли отлично…
– Душевно сожалею, что пасхальную заутреню не сослужили мне, отец архимандрит. Знаю, у вас свой приход, и сколь далеко от нас, на другом конце города, а все же жалею, что не вместе встречали светлый праздник.
– Ах, кстати, нам сюда доставили артос, приношение.
Отец Савватий надевает очки почти на кончик носа и будто вдаль, как на планету астроном, смотрит на Андроника. Лицо сразу становится серьезнее, внушительней:
– И хороший артос?
– Превосходный, и очень большой. Но ведь у нас артос есть уже. Что же с этим прикажете делать?
– А который же из них больше?
– Новый гораздо больше.
Архимандрит Савватий снял очки. Лицо его выразило некую удовлетворенность. Медленно протирая разноцветным платком очки, он ответил:
– Не оскудевает вера православная. Дай Бог здравия дарителю.
– А как же быть с прежним артосом? Ведь нам два не нужны.
Савватий медленно вложил очки в футляр, цветной платок вложил в карман подрясника, где много чего может поместиться, неторопливо ответил:
– А прежний, дорогой отец архимандрит, вмените в оптический обман. Пользоваться будем тем, который больше.
Лицо его приняло совсем спокойное, прочное выражение.
– Тем, который больше.
* * *Отец Савватий занимает квартиру небольшую, все же две-три комнаты. Обстановка простецкая. В углу, конечно, иконы, в шкафу одеяния, туда же он думает упрятать епископскую митру, ее он почти уже присмотрел и вот-вот приобретет. В особой шифоньерке, тщательно запертой, чековая книжка – небольшой текущий счет – и кое-какие деньжонки. Скуп он вовсе и не был, но «златниц» не презирал, кое-что сберегал. «Дым есть житие сие, пар, персть и пепел», – повторял иногда. Все же мощной своей натурой персть эту любил. Посты соблюдал, но в скоромные дни не прочь был «вкусить», иногда ездил к знакомым прихожанам и не без понимания пропускал другую-, третью рюмочку «во благовремении».
У архимандрита Андроника одна комната, с крохотным чуланчиком-кухонькой. Его обиталище совсем не похоже на Савватиево. Древнего письма икона в углу с неугасимой лампадой. Стены сплошь в книжных полках, книги затопляют комнату. Зеленоватый отсвет каштанов за окном дает ей полу сумеречный, спокойный тон. Глубокая и как бы нерушимая тишина в этой келии, где недалеко от икон висят: портрет Константина Леонтьева, император Александр I на коне, Леон Блуа[47] – все любимцы архимандрита. Разумеется, никак не похож он на рядового монаха, но и нечто весьма древнее и вековечно православное есть в его огромных, глубокосидящих и глубоких глазах. Мать у него была старообрядка, святой жизни женщина, отец – ученый.
Теперь, в преддверии лета, он особенно завален работой. Кроме экзаменов в Академии – читает он патрологию – подготовляет международный научный съезд, здесь же в монастыре. Это нелегко. Переписка с Англией, Германией, не говоря уже о Франции. Хлопот много. Один ученый извещает, что приедет, а потом, извиняясь, отказывается, другого нужно убедить, что больше сорока минут читать нельзя, третий хотел бы знать, возможен ли тут режим питательный. Надо и разместить богословов этих по отелям, достать златниц достаточно.
Но архимандрит упорен. И кроме лекций своих и патрологии, наводняет почтовый ящик письмами на разных языках, ходит по ближайшим отелям, хлопочет об устройстве кое-кого здесь же при монастыре.
Худеет еще более, но увлекается. Ему по сердцу вся эта затея – его детище – невиданный еще выход православия на европейский простор. Католические богословы, протестантские, французы, немцы, англичане встретятся в скромном российском монастыре, под иконой смиреннейшего Святого, в братском общении с православным духовенством и учеными православия.
Но спит Андроник из-за этих трудов все меньше. И не об одном съезде думается ему в эти ночи.
Воспоминание невольно предо мнойСвой длинный развивает свиток.Архимандрит Савватий некогда был женат, служил священником, а когда жена скончалась, принял монашество. Оно пришло просто и естественно, в не весьма ранних годах. Многое уже улеглось в натуре. Архимандрит Андроник в ранней молодости из-за неудачной любви совершил прыжок, в минуту бедственную по отчаянию перескочил в другой мир. Был студентом – стал монахом. В одни сутки.
В эти летние дни чаще, дольше видел Савватий свет в окошке соседа. Про себя шептал: «Ах, ученость! Ученость! Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь неба и земля славы Твоея!»[48]
Кое о чем в Андронике он догадывался. «Труден путь иноческий, труден, – говорил, вздыхая. – Помоги, Господи!» – переворачивался на другой бок, засыпал безмятежно.
* * *Дни раннего лета плыли как облака, тихо и незаметно. Каштаны как всегда осеняли горку Святого, зеленоватые их тени блуждали и по взгорью, по крышам домов Савватия и Андроника, по цветнику близ церкви – детищу архимандрита Андроника. В храме шли служения, хор студентов пел древние распевы, небогатый колокол однообразно вызванивал, что полагается.
Архимандрит Савватий вел храм в простоте, силе, спокойствии. «Чудный наш боровик, лесной дух, – думал иногда о нем Андроник. – Кондовый, народный… ну, этот не из изощренных наших, простецкий, но он мне нравится». Ему нравилось даже, как бесхитростно сосед желал епископства.
После службы в приходе к вечеру возвращался Андроник в келию свою в зеленоватом полумраке колеблющейся листвы каштанов.
Некогда был он иеромонахом в Сербии, с Балкан вывез пристрастие к турецкому кофе. И, вернувшись, нередко варил его у себя в маленькой кухоньке – тогда к запаху ладана (им пропитана была вся его комната) примешивался благородный запах кофе – крепчайшего.
Раздается легкий, но и значительный стук в дверь.
– Аминь.
В растворенной двери седовласая голова на могучих плечах:
– Зашел на минутку навестить усердного отца архимандрита.
– Всегда рад, всегда рад видеть.
– По благоуханию замечаю, что турецким кофейком утешаетесь. Знаю, по пребыванию в балканских странах приобщились вкусам их.
– Дай подкрепляет очень. Вот вы попробуйте. Кофе как раз готово, – Андроник выносит на подносе небольшой кофейник и две чашечки. Савватий грузно садится в старинное, вытертое кресло у стола.
– Вкушу охотно, хотя в балканских странах бывать не приходилось.
И два архимандрита не спеша, но сознательно принимаются за кофе, благоуханно дымящийся.
– Напиток сладостный, – говорит Савватий. – И точно, оживляет усталого человека. Вы ведь, дорогой авва, в Сербии блаженной памяти митрополиту Антонию сослужили?
– Да, и сохранил о нем хорошее воспоминание.
Император Александр на коне и красавец Леонтьев молча смотрят со стен.
– Слышал я, что владыка Антоний предлагал вам даже хиротонию во епископа?
Лицо Андроника делается серьезней, несколько суровей.
– Предлагал.
– А вы?
– Отказался.
Наступает молчание. Архимандрит Савватий расправляет знаменитую свою бороду – точно серебряные струи текут меж его пальцев.
– Прошу прощения, дорогой авва, могу ли осведомиться о причине?
Лицо Андроника становится опять спокойным, как бы и отдаленным: было – и прошло. Мало ли чего не было в его жизни? И утекло.
Отвечает он негромко, ровно:
– Не нахожу в себе способностей. Да и желания. Плохой бы я был архиерей. Вы меня знаете. Вот, службы в церкви, книги, рукописи – это мое, а управление епархией – другое. И молод я тогда был для епископа.
– Слышал я, что Первосвятитель наш и здесь предлагал вам митру?
– Совершенно верно.
Савватий замолчал. «Хоть и не так молод теперь, а отказался. Отец архимандрит упорен, его с места не сдвинешь. Что решил, то и сделает, – подумал Савватий. – А может, и гордыня какая…» Но осуждения в том не было. «Все – люди, все – человеки. У каждого свое».
– А вот я, грешный, не отказываюсь. Из Византии вести хорошие. Но не торопятся.