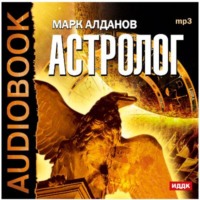полная версия
полная версияНачало конца
Когда-то в пору Гражданской войны он поступил на советскую службу с намерением либо помочь тому, кто произведет переворот, либо, улучив подходящую минуту, перейти к белым. Из этого ничего не вышло. Переворот не происходил, белые генералы, по дошедшим до него слухам, называли его кто дураком, кто подлецом и изменником. А главное, нужно было жить. Он пришел к мысли, что можно служить России при любом строе, особенно когда служишь в армии. В последние годы жизнь кое-как наладилась, началась работа, почти такая, как в лучшие времена; к нему относились хорошо и с мнением его очень считались. В дураках оказались люди, называвшие его дураком. Газет, которые могли бы смешать его с грязью, больше не было. Вначале еще тревожила мысль: что, если придут те? Теперь как будто ясно было, что те не придут. Иногда, впрочем, ему снилось их возвращение. Проснувшись, думал, что этого быть не может; но если они и вернутся, то ведь должны же будут считаться с оставшимися! Оставшихся было неизмеримо больше, чем ушедших, и все они в эти годы вели себя почти одинаково.
Тамарин пробежал телеграммы. Известия тоже были неприятные: сообщалось о больших успехах итальянских войск в Африке. По своим взглядам, он желал победы Италии, считал Муссолини великим государственным деятелем: «не было у нас ни одного такого, оттого так все и вышло…» Но генерал был убежден, что завоевать Абиссинию итальянцам будет чрезвычайно трудно. В одной из самых лучших своих статей он доказал, что горная цепь Амба-Аладжи неприступна. Ссылаясь на его авторитет, советская газета высказала даже в передовой уверенность, что на эфиопском деле империалистская банда сломит себе шею (эта ссылка была для него большим служебным успехом). Теперь в телеграмме сообщалось, что Амба-Аладжи и даже Амба-Арадам взяты. «Может, еще неправда?» – усомнился Тамарин. Однако сообщение как будто походило на правду – теми почти неуловимыми признаками, которые чувствуются и во вранье официальных сообщений. Генерал проверил ход своих мыслей. Штурмовать отвесный горный хребет, на котором укрепилась армия раса Десты, очень трудное, почти немыслимое дело. «И ведь не станет же тем временем сидеть сложа руки рас Сейюм: тотчас, разумеется, ударит на линию Макалэ – Адуя», – подумал он, от всей души желая успеха расу Сейюму, несмотря на свои загнанные внутрь политические взгляды и на преклонение перед Муссолини. Несколько успокоенный, он выбросил немецкую газету за окно и, открыв том Клаузевица на 148-й странице (вспомнил и без мнемонического приема), стал выписывать те строки в записную тетрадку. Но поезд несся быстро, карандаш прыгал по бумаге, выходили каракули. «Нет, в вагоне работать нельзя…»
Он вынул из чемодана иллюстрированный журнал с крестословицами. Вначале пошло хорошо. В вертикальном ряду первым было: «Им славятся Марсель и Казань». «Мыло, разумеется», – с удовольствием подумал генерал. Но затем пошли загадки: «Энергичного человека она не заставит повернуть обратно…» «Пуля? Нет, не пуля. Укрепления? Тоже нет…» Пропустил: легче будет, когда выяснится следующий ряд… «Префикс, заимствованный из татарского языка». «Что за вздор! Откуда порядочному человеку знать такие вещи?..» «Она рассказывала Митрофанушке интересные истории…» Тамарин старался вспомнить: Митрофанушка это из «Недоросля», но кто же рассказывал ему интересные истории? Няня? Мать? Не выходило.
В это время в его купе вошел Вислиценус. Генерал несколько смутился, отложил иллюстрированный журнал и, поиграв серебряным карандашиком, незаметно спрятал его в карман. С Вислиценусом он был немного знаком по Москве (встречал изредка на заседаниях) и относился к нему так, как мог бы относиться к пляшущему дервишу или к существу, прилетевшему с Луны: может быть, и хорошее существо, но ждать от него можно всего, надо быть очень осторожным. Перед самым его отъездом из Москвы Тамарину было объявлено, что, быть может, Вислиценусу за границей понадобится его помощь – это очень встревожило генерала – «советом и техническими указаниями», несколько успокоил его начальник. «Неужели пришел за помощью?» – подумал он. Однако его опасение было неосновательно. Вислиценус просто хотел побеседовать: что за человек? Почему-то ему нравился командарм Тамарин. У него была слабость к военному делу и к военным людям. В детстве он страстно мечтал стать великим полководцем.
«Как спали?» – спросил он. «Как изволили почивать?» – одновременно спросил генерал. Оба засмеялись. Тамарин сказал, что слишком долго вчера играли в винт. «Охота вам…» – «Отлично играет наш полпред», – заметил Тамарин. «Вот как, отлично?» – сказал Вислиценус, и в тоне его почувствовалось недоброжелательство. «Да, в винт он, говорят, превосходно играет, – подумал он, – что ж, у каждого человека должно быть что-либо настоящее, свое, подлинное, у него, быть может, винт…» «Я тоже слышал, что он прекрасный винтер», – с насмешкой сказал Вислиценус. Генерал насторожился. Ему доставляли удовольствие раздоры и столкновения между этими людьми (он часто видел такие сцены в комиссиях, где эти люди с ним бывали почти всегда любезнее, чем друг с другом). Однако Вислиценус больше ничего не сказал и перевел разговор на Германию, на немецкую чистоту и порядок. «На это они точно мастера», – сказал Тамарин и вспомнил какой-то эпизод из времен войны. Эпизод был малозамечательный, но Вислиценус терпеливо слушал: может быть, в конце будет что-либо интересное? Интересного и в конце ничего не оказалось. Попробовал наудачу спросить, какую военную школу Тамарин ставит выше: немецкую или французскую? Генерал ответил, что у немцев больше основательности, Gründichkeit, а у французов больше – ну как сказать? – больше брио[11]: «знаете, этот французский élan[12]?..» Вислиценус кивнул головой со значительным видом, точно только теперь, после разговора с крупным специалистом, понял, в чем разница между обеими школами. В развитие своей мысли командарм процитировал Клаузевица: «Die moralischen Hauptpotenzen sind: die Talente des Feldherrn, kriegerische Tugend des Heeres, Volksgeist desselben» и перевел: «Таланты полководца, воинская добродетель армии и ее национальный дух…» Сказал и пожалел: лучше было не говорить таких слов. «Тогда мы хороши, – угрюмо подумал Вислиценус. – Да, Клаузевиц: «Der Krieg ist eine Fortsetzung der Politik»[13], – ответил он, показывая, что переводить немецкую фразу было не нужно. «Ленин тоже очень высоко ставил вашего Клаузевица. Я поэтому начал было его читать и бросил: мне показалось скучно, общие места». Генерал посмотрел на него так, как очень терпимый, но верующий мусульманин мог бы смотреть на человека, отзывающегося пренебрежительно о Магомете. «Ну, знаете, – сказал он, – это как кто-то говорил, что «Горе от ума» – плагиат: все состоит из поговорок, там Марья Алексеевна и все прочее…» Разговор сразу оживился, и через несколько минут оба уже беседовали с увлечением.
– …Да, это отчасти верно, – говорил Вислиценус в ответ на приведенную Тамариным цитату, ту, которая накануне так его взволновала, – но только отчасти. Вам, генералам, конечно, эти мысли выгодны. Если вы побеждаете, честь и слава. А если не побеждаете, то виновата политика, вы тут ничего не могли сделать: «unmöglich»[14], не правда ли? Поэтому-то все вы так любите Клаузевица. Нет, дело не в политике, а в технике. Вы, военные люди, германскую войну представляли себе как японскую, и с 1905 года по 1914-й готовились к новой японской войне. А теперь вы будущую войну представляете себе как германскую и опять готовите нам прошлую войну. А она будет совершенно другая. Отчего? Оттого, что какой-нибудь штатский Майер или штатский Сидоров, или штатский черт в ступе выдумает какую-нибудь штучку, из-за которой все ваши расчеты пойдут прахом.
– Это неверно, просто фактически неверно, – говорил Тамарин, сдерживаясь: все-таки он не мог серьезно спорить о военном деле с штатским человеком. – И прежде всего потому неверно, что нам все эти штучки Майера тотчас становятся известными, и мы их пускаем в ход…
– Ничего вам не становится известным, так как в мирное время Майер ни о какой войне и не думает. Он начинает думать о войне, когда война уже идет, когда газеты его раскалят до белого каления, когда у него убьют сына, внука, племянника. Вот тогда он и начинает думать, как бы лучше отправить на тот свет тех «ближних», с которыми он за год до того воспевал братство людей и лакал пиво на разных научных конгрессах. А так как у Майера больше знаний и таланта в голове, чем у всех генералов, вместе взятых (Тамарин пожал плечами), то он-то, Майер, обезьяну и выдумывает. Тогда являетесь вы, господа генералы, и «пускаете в ход». Так было и с удушливыми газами, и с танками…
– Танки изобрел генерал! Ваш пример говорит как раз против вас!
– Уж будто? Верно, изобрел какой-нибудь состоявший при нем инженер, а он выдал за свое. А уж насчет удушливых газов я твердо знаю: штатский профессор выдумал, Габер, Хабер, Гагер, не помню.
– Но если все определяется наукой, то чего же стоит ваш экономический материализм? – сказал генерал. Лицо у него изменилось, он немного побледнел. – Что же тогда руководит миром? Бытие или сознание?
– Это другой вопрос!
– Нет, не другой, а тот самый. Я спрашиваю: бытие или сознание? Тогда, извините меня, ваш материализм ерунда!..
Он спохватился и замолчал. Вислиценус засмеялся. Ему все больше нравился генерал: и тем, что он изменился в лице, когда речь зашла об его деле («да, конечно, у него подлинное это»), и тем, что перелицованный костюм с боковым карманом на правой стороне пиджака на нем казался почти новым, и тем, что в его купе приятно пахло туалетной водой, – и всем вообще своим обликом. «Облик – пустяки, но в каком-то смысле мы оба с ним люди старого времени», – подумал Вислиценус. К собственному его удивлению, эта неожиданная мысль не была ему неприятна.
– Вы меня обошли слева, – смеясь, сказал он, показывая, что командарму опасаться нечего. – Да я и в самом деле плохой марксист. – Тамарин снова насторожился. «Это можно понимать двояко: «плохо понимаю марксизм» или «плохо верю в марксизм»? Уж не провокация ли?» – подумал он. Стук поезда чуть изменил тон, послышался свисток; это как будто клало конец отделу разговора, как в книге цифра новой главы. Вислиценус посмотрел на часы.
– Медленно идет время… Вы позволите? – спросил он, взяв с дивана иллюстрированный журнал. – Вы, кажется, занимались крестословицами?
– Да, я в дороге люблю, – сказал, виновато улыбнувшись, Тамарин. – Работать ведь нельзя, а…
– Я тоже очень люблю. Вот эта? «Им славятся Марсель и Казань…» Мыло, конечно, – с торжеством догадался он.
– Это-то мыло, а вот дальше: «Энергичного человека она не заставит повернуть обратно», вы это скажите.
– «Энергичного человека она не заставит повернуть обратно…» Да… «Бомба»? Нет… «Красавица»?..
– Нет, какая же «красавица», четыре буквы. – Генерал снова вынул из кармана серебряный карандаш.
IV
Надежде Ивановне тоже было отведено отдельное купе: места в вагоне было гораздо больше, чем требовалось. Проводник давно аккуратно прибрал постель, нигде не было ни соринки. Оглядела себя в зеркало, все в порядке, разве только следы сажи в ноздрях. «Ничего, это не противно… Какой чудак Дакочи, – подумала она и пожалела, что была нелюбезна: он ведь ничего обидного не сказал, а нотации читает отечески. – Удивительно, как много стариков относится ко мне отечески. Но противного в нем нет ничего, напротив. Что же «напротив»? Не выходить же замуж за старика, глупости!..»
Она села у окна и вынула из несессера книгу. За окном было тускло, пасмурно: ни зима, ни весна. В такую погоду путешествовать и тоскливо, и приятно. «Немного скучно с ними… Скоро приедем, дальше что? Устроимся на новом месте, осмотрим достопримечательности, музеи, дальше что?» Дальше ничего не было. «Писать письма под диктовку, переводить бумаги? Я не хнычу, это полезное дело, кому-нибудь нужно его делать, и я ни на что другое рассчитывать не имею права. Весь багаж: стенография и три иностранных языка. Вышло отлично, лучше, чем можно было ожидать: сразу получила командировку, увижу свет, людей… Это, впрочем, только так говорится: людей посмотреть, себя показать. И смотреть будет, вероятно, некого, кроме Эдуарда Степановича, и себя показывать некому. Жаль, есть что показать, – хотела было она подумать, но не осмелилась: что за самохвальство! – Да, стенография как временное занятие, это ничего, но всю жизнь писать письма я не согласна. Что же делать, талантов никаких нет. Есть, правда, такие занятия, искусства не искусства, ремесла не ремесла, для которых особого таланта не нужно или самый маленький. Неужели же у меня и маленького не найдется? Стать декораторшей? Выжигать по дереву? Фарфор? Вкус есть, это все признавали, даже враги… Изучить можно года в два, только надо наконец выбрать. Нет, не пропаду, дело найдется…»
Следовало, очень следовало подумать и о другом, но это были неприятные мысли, и ей теперь не хотелось об этом думать. «Нет, потом, позднее…» Стала смотреть в окно: надо изучать Европу. Она никогда за границей не была; никаких ценных наблюдений до сих пор не сделала. «Что-то, кажется, приходило в голову там, на вокзале, что не стыдно будет сказать при умных людях. Не помню, надо бы записывать… Если правду говорить, такой уж разницы нет: и люди такие же, только одеты все гораздо лучше, мальчики, девушки. Там, на станции, это, конечно, были влюбленные… – Она вздохнула. – Ну, вокзалы у них другие, буфеты. У них это в провинции, как у нас в столице. Посмотрим еще Берлин… У нас все лучшее, разумеется…» – За окном стало падать что-то грязно-серое, пристававшее к стеклу и тотчас таявшее. Она засмеялась: «Хорош снег!..» И сразу ей стало весело, нет, конечно, все лучшее в России. «Это у них называется мороз, зима! – Ей радостно вспомнились недавно попавшиеся в книге, сразу запомнившиеся и понравившиеся стихи: «Полно! Что зима отнимет, – Все отдаст тебе весна!..» – Да, все отдаст, и работа будет, и жизнь будет, всем будет хорошо, и мне будет отлично…»
Раскрыла книгу – воспоминания известного артиста. Царь Николай II умолял поссорившегося с ним Далматова вернуться на императорскую сцену. «Вася, – говорил мне государь, – вернись на мою сцену! Все у меня есть: гвардия, кавалерия, артиллерия, армия, флот, а тебя нет. Возвращайся же!» «Нет!.. – говорю, – Ваше Величество! Обида горькая, не могу вас простить!» Далматов стоял, гордо подняв свою красивую голову…» «Как хорошо! – подумала Надежда Ивановна: «гордо подняв свою красивую голову». Вот бы и мне стать артисткой и так стоять. Но царей больше нет. А может быть, он тут и приврал…» Рассеянно перелистывала книгу то к концу, то к началу. «В 1910 году меня особенно потрясли два события: уход из Ясной Поляны Л. Толстого и смерть «света моего» – Веры Федоровны Комиссаржевской в далеком Ташкенте. Масса вечеров, концертов и заседаний посвящено было двум этим грустным событиям…» «Ах, если б прожить, как Комиссаржевская», – с завистью подумала Надежда Ивановна и вернулась к уже прочитанным вчера страницам. «Это письмо есть в некотором роде аутодафе моего хорошего отношения к вам, – писала артисту Комиссаржевская. – Видите ли, я до боли ищу всегда, везде, во всем прекрасного. Но есть одно свойство человеческое, не порок, а прямо свойство, исключающее всякую возможность присутствия этой искры, понимаете, вполне исключающее, – это пошлость… Что могло бы спасти вас? Одно, только одно – любовь к искусству. В Парижской галерее изящных искусств есть знаменитая статуя. Она была последним произведением великого художника, который, подобно многим гениальным людям, жил на чердаке, служившем ему и мастерской, и спальней…»
В книге был портрет автора в роли Гамлета: он полулежал в кресле, опустив голову на левую руку, далеко отставив жирную правую ногу в длинном, до колена, чулке. «Какие безумные глаза!» – с восторгом подумала Надежда Ивановна. Был и портрет Комиссаржевской, тоже с безумными глазами. «Разве вы в состоянии пережить то, что пережил этот скульптор? Разве вы ощущаете когда-нибудь что-либо подобное? Разве уносит вас невидимая могучая сила в волшебный мир необъятной фантазии, мир, исполненный поэтичными образами, неуловимыми видениями, освещенными каким-то дивным светом… Во-первых, вы рано вступили в эту ядовитую для молодой души атмосферу, а во-вторых, не было возле вас женщины-друга…» Надежда Ивановна вздохнула. Ее взволновали слова Комиссаржевской; но письма ей не очень нравились, хоть и страшно было критиковать столь гениальную женщину, которую боготворила вся Россия. «Зачем же она ему писала это и разве нельзя было сказать все это не так?.. «Не было возле вас женщины-друга…» А я могу ли быть женщиной-другом? Ну, не при Сашке Павловском, конечно: это просто нахал-мальчишка, и не очень грамотный, и ему просто не надо отвечать на его последнее письмо, – а, например, при этом Дакочи, или Вислиценусе? Говорят, он страшный человек. И в самом деле, в нем чувствуется большая сила. Это так хорошо в мужчине, но отчего же ему пятьдесят пять лет? Отчего я не встретила его раньше?» Опять поползли мысли, которые она на время себе запретила, и опять она прибегла к тому же средству: стихи помогли и на этот раз. «Полно! Что зима отнимет, – Все отдаст тебе весна!..»
Послышались свистки, Кангаров приотворил дверь. «Детка, сейчас Берлин, Шлезишер бангоф», – сообщил он почему-то несколько встревоженным голосом. «Ах, уже Берлин!» – ответила она и тоже заволновалась. Бросила взгляд в зеркало, без самохвальства осталась довольна. Она в самом деле была очень хороша. «Красавица, прямо красавица», – восторженно говорили в Москве знакомые молодые люди. «Ну, красавица не красавица, нос можно бы сильно подточить, и нога большая, и чего-то ей в лице не хватает, но, конечно, она хорошенькая, если хотите, даже очень хорошенькая», – признавали подруги. Надежда Ивановна перетянула пояс и вышла в коридор. Там уже были все. Вислиценус взглянул на нее и, ничего не сказав, отвернулся к окну. Елена Васильевна зевнула.
– Скушно мне што-то, очень скушно, – сказала она. За окнами медленно проплыла огромная фигура полицейского. Поезд остановился, кондуктор, приложив руку к козырьку, почтительно отворил дверцы. В вагон, сгорбившись, поднялся высокий, худой, необыкновенно элегантный старый человек в монокле и в цилиндре. Кангаров едва удержался от восклицания. Это был титулованный дипломат, видный деятель германского министерства иностранных дел. В течение очень долгих лет – пока можно было – его часто изображали немецкие карикатуристы и почти всегда изображали неудачно: вместо карикатуры получался обыкновенный портрет, так как этот дипломат был по внешности живой карикатурой на дипломата. «Смотрите, Вильгельмштрассе прислала представителя!» – взволнованно прошептал секретарю Кангаров (он всегда говорил об иностранных министерствах: Вильгельмштрассе, Даунинг-стрит, Кэ-д’Орсе, Балль-платц). По правилам, правительство нисколько не было обязано посылать своего представителя для встречи посла, назначенного в другую страну и только проезжавшего через Берлин. Но, очевидно, министерство иностранных дел сочло нужным проявить особую любезность – было и маленькое дело, – а высшему правительству можно было сказать, что этого требовал дипломатический этикет. Тем не менее лицо дипломата выражало некоторое смущение. На перроне он даже оглядывался не без робости по сторонам и по ступенькам поднялся тоже торопливее, чем обычно.
В вагоне произошла некоторая суматоха. Секретарь изменился в лице: «даже в этой дикой стране!..» Кангаров радостно пошел навстречу дипломату: они не раз встречались на разных международных конференциях. Он познакомил гостя с женой и с секретарем, с беспокойством взглянув на Вислиценуса, – «от этих людей из «Люкса» можно ждать чего угодно», – затем повел дипломата в свободное купе, заглянул в купе Наденьки и сказал «виноват», хоть там никого не было, был только открытый несессер.
Они сели, поезд тронулся. Кангаров ахнул, дипломат его успокоил: «Я хотел доставить себе удовольствие сопровождать ваше превосходительство до следующей станции». – «Ах, господи, я и забыл, что у вас в Берлине поезда проходят через все вокзалы», – сказал, сияя улыбкой высшей сладости, Кангаров. За окном, неестественно близко от поезда, неслись огромные, новые, незакопченные, как будто вчера выкрашенные дома. Дипломат осведомился о том, как они путешествовали и не очень ли устали, спросил о здоровье народного комиссара и высказал свое мнение о погоде. Он и говорил совершенно так, как говорят в левых пьесах левые актеры, изображающие «дипломатов-рамоликов»[15]. Кангаров отвечал с достойным видом, означавшим: «Да, конечно, мы враги, но корректные враги, и прежде всего мы видавшие виды дипломаты…» Сгоряча он даже чуть не спросил о здоровье Гитлера, но вовремя спохватился и справился о здоровье министра иностранных дел. О деле было сказано лишь несколько слов, этого было достаточно: оно большого значения не имело. Поезд снова вошел в полутемную гигантскую сквозную клеть. Дипломат простился с послом и в коридоре низко изогнул худую спину перед Еленой Васильевной.
Вислиценус с усмешкой на него посмотрел. Он тоже в свое время встречался с этим дипломатом и даже как-то раз с ним поздоровался (нельзя было не поздороваться) в женевской кофейне «Бавария», в которой собирались делегаты Лиги Наций, журналисты и просто любопытные люди, желавшие посидеть в одной комнате со знаменитостями, – всегда может подвернуться и случайный фотограф. Дипломат, разумеется, его не помнил, но на всякий случай Вислиценус и смотрел на него с видом, отбивавшим охоту к возобновлению знакомства. «Незачем пожимать руку этим господам…» Он вспомнил, что несколько лет тому назад этот дипломат гнул спину перед самыми левыми министрами. Толстый, огромный, грубоватый Штреземан, с вечно налитыми кровью глазами, с распухшими жилами на лбу, по обычной своей манере природного вождя людей, народного трибуна и Наполеона мира (так его бессмысленно называли в «Баварии»), третировал дипломата довольно бесцеремонно. «Ну, теперь покланяйся другим, – с ненавистью и почти с торжеством думал Вислиценус, – у вас ведь это называется: служить родине независимо от ее политического строя. Служи, служи, и жалованье идет, бог даст, новые чины выйдут… И наш тоже хорош, два сапога пара…»
Дипломат во второй раз сказал: «Gute Reise, Exzellenz»[16] – и взялся за ручку двери. Дверь толкнули с другой стороны, в коридор вошел Тамарин. На этом вокзале будка с напитками оказалась как раз против их вагона; тотчас по остановке поезда он вышел на перрон и выпил наскоро чашку кофе, – данцигской водки в будке не оказалось, продавец даже посмотрел на него с недоумением и предложил рюмку вейнбранда. Увидев дипломата, генерал остолбенел. Оба изумленно глядели друг на друга с полминуты, затем ахнули и засмеялись. «Alle Wetter!»[17] – сказал дипломат не тем голосом, которым говорил за минуту до того, и с неожиданной силой хлопнул генерала по рукаву (это и представить себе было трудно). «Donnerwetter!»[18] – проговорил, придя в себя, генерал.
Они когда-то хорошо знали друг друга, много раз встречались во времена доисторические – встречались в совершенно иной обстановке. Обоим стало и смешно, и весело, и стыдно. «Das heißt: «vingt ans après»[19], – сказал дипломат, и в глазах у каждого из них выразилось: «Что? И ты тоже? Да, и я служу такой же сволочи, ничего не поделаешь, кончилось наше время…» Больше им сказать друг другу было нечего.
К обоюдному их облегчению, кондуктор заорал: «Einsteigen!» Дипломат слабо засмеялся, развел руками, показывая, что ничего нельзя сделать – видно, не судьба, крепко пожал руку Тамарину, оглянулся на улыбавшегося Кангарова и поспешно в третий раз произнес: «Gute Reise, Exzellenz…» Кангаров покосился на свиту: «хоть и смешно, что Exzellenz, а все-таки слышали?..» «Старые знакомые?» – полувопросительно сказал он с видом полного одобрения. Секретарь изучал дипломата, стараясь все запомнить: покрой пальто, перчатки, борты цилиндра. «Какой смешной старый немец!» – весело думала Надежда Ивановна. У Елены Васильевны был вид Марии Стюарт в сцене с королевой Елизаветой.
V
С вечерней почтой пришло письмо издателя: memento mori. Собственно, на первый взгляд ничего особенно неприятного в нем не было. Издатель нисколько не был неучтив или нелюбезен: Луи Этьенн Вермандуа занимал во французской литературе такое положение, что нелюбезным издатели с ним быть не могли. Напротив, в письме было очень много комплиментов; их было даже, пожалуй, слишком много. Как всегда, начиналось оно с «Cher Maître et ami»[20], а кончалось «Croyez, je vous prie, cher Maître, а mes sentiments admiratifs et cordiaux»[21], – все как следует. Издатель не отказывался от романа из древнегреческой жизни, который ему предлагал Вермандуа. Он только не соглашался на аванс в тридцать тысяч франков и неопределенно-уклончиво говорил, что речь могла бы идти лишь о гораздо меньшей сумме. Собственно, и в этом ничего особенно странного не было: издатели всегда торговались, и он с ними всегда торговался. Но в том, что письмо никакой суммы не называло, и в словах «гораздо меньшей» было неприятное и подозрительное. Правда, издатель ссылался на кризис и сообщал, что ничьи книги теперь не продаются; однако и в слове «ничьи» также было memento mori: как будто книги каких-то других писателей теперь должны были продаваться лучше его книг.