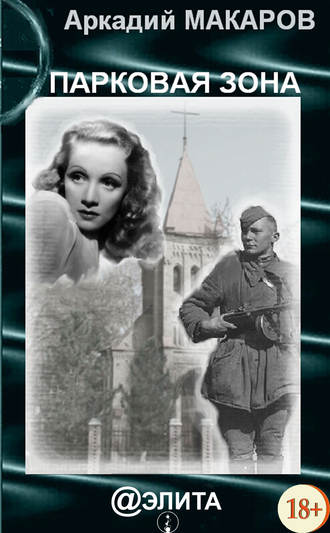
Полная версия
Парковая зона
Пить не хотелось, но не мог же Иван смалодушничать перед столь представительным товарищем!
Он, звякая зубами по стеклу, сделал несколько глотков, и спирт снова обжег внутренности, ввинчиваясь до самых пяток.
Иван не рассчитал – доза получилась приличная: земля, на миг накренившись, выровнялась, но стала зыбкой, и чтобы не упасть, Метелкин снова полез в воду. Там у берега все еще плескался и фыркал, как сивуч, Мишка.
Несколько раз окунувшись, Иван вылез и стал одеваться, и друг последовал за ним. Одежда была теплой и приятно согревала их озябшие тела.
Тем временем Манида выкатил из костра шар, подул на него и развалил на две половины. В одной из них белело мясо. Перья снялись вместе со скорлупой, запекшись в ней. Невыносимо дразня аппетитным духом, курятина лежала как на блюде.
Ребята уселись кружком, с нетерпением ожидая команды своего покровителя. Тот молча протянул Мише бутылку, и Спицын, запрокинув голову, сразу начал глотать боярышниковую настойку, поливая свои колени.
Видя такое дело, Манида потянул бутылку на себя, одновременно подсовывая Мишке толстую куриную ляжку, и тот, сграбастав ее, торопливо стал жевать, обжигаясь и урча от удовольствия.
Хорошо прожаренное, в собственном соку, куриное мясо парило. Ивану досталась другая ножка, а Манида на правах хозяина взял себе гузку. Оставшуюся костистую часть клушки-несушки поделили на троих.
Курятина была настолько хороша, что Иван и спустя годы, особенно в пору холостяцкого скитания по рабочим общежитиям, часто вспоминал вкус того белого, истекающего розовым соком мяса…
Сердце гулкими толчками гоняло всосавшийся в кровь алкоголь по молодому телу. Снова стало жарко, и Иван расстегнул рубашку до самого живота.
Лошади, что паслись неподалеку, то ли из любопытства, то ли из желания пообщаться с людьми, прибрели на весёлый говорок. Да и обилие матерных слов, видать, по многолетней привычке притягивало их: местный колхозный конюх, приблудный Хомка Юхан, был виртуоз в этом деле, и лошади шли на знакомые звуки.
Коняги подошли совсем близко, обирая под берегом траву и нещадно хлеща себя метлами хвостов. Ребята с любопытством поглядывали на них. Молодые кобылы, резкими движениями стряхивая с себя слепней и налипших мошек, всё норовили подсунуть свои головы под шею вожака.
Вожак начал возбуждаться и тихо, как бы про себя, коротко заржал, поигрывая плотной, цвета тяжелой меди, блестящей кожей. Перебирая задними ногами, он, обнажив большие и крепкие, как морская галька, зубы, игриво покусывал своих шаловливых подруг и восторженно всхрапывал. Темный с синеватым отливом ствол стал медленно выходить из подбрюшья.
Молоденькая цыганистой масти кобылка, подгибая задние ноги, все приседала, опуская круп перед похохатывающей мордой ухажера. Широко раздутые ноздри, глубокие и темные, как бездонные воронки, черными розами ложились на ее склоненное тело.
Жеребец то поднимался, то соскальзывал передними ногами с услужливой подруги. Ствол, напрягшись до предела, стал похож на толстый раскаленный стальной стержень перед его закалкой в масляной ванне. Поднимаясь и опускаясь, пульсируя скрученными жгутами вен, он жил отдельно, как бы сам по себе.
Заинтересованные неожиданной картиной и подогретые алкоголем шалопаи с любопытством наблюдали, чем все это кончится.
Манида поцокал языком:
– Гадом буду! Если бы я имел такой дрын, тут же укатил бы в Сочи, на Черном море деньгу заколачивать, а не здесь, в этих гребных Бондарях ошивался…
– Не прибедняйся, Колюха, – со знанием дела вставил Мишка, – небось, наша училка тебя так далеко не отпустит.
Купаясь, ребята не раз имели возможность сравнить свои достоинства с Колькиными.
Тем временем жеребец с налитыми кровью глазами, победно затрубив, придавил широкой грудью свою податливую подругу, вогнал в нее весь стержень до отказа, и заработал им, как паровозным шатуном.
Кобылка, выгнув спину дугой, задрав верхнюю губу и обнажая розовые бугристые десны, тихо и утробно урчала.
От возбуждения заскоблив ногами по песку, Мишка опрокинул бутылку, и она, быстро опоражниваясь, покатилась к воде.
Вода лизнула ее и, видимо, обожглась – отпрянула назад. Затем снова лизнула и, успокоившись, закачала ее у самого берега.
Манида с воплем «Чего же ты, сука, наделал!», вскочил на четвереньки и одним прыжком достиг воды, но бутылка, уже накренившись, встала «на попа» и заплясала, как поплавок во время поклевки.
Колька, не сознавая, что делает, стал быстро черпать пригоршнями воду, где качалась бутылка, и торопливо поднося ко рту, хватать ее губами, будто спирт еще мог находиться там, в набегающей волне.
Уже зачумленные хмелем и испачканные общением с великовозрастным балбесом Манидой, ребята, утробно икая, хохотали, отвернувшись в сторону, чтобы не схлопотать по шее за непочтительность.
Жеребец, вспугнутый громким криком, сделал резкое движение и вышел из недр своей подруги, поливая лоснящуюся кожу и примятую пыльную траву белой струей.
Манида, поняв безнадежность своего дела, встряхивая кистями рук, стал медленно вылезать из воды. Вид у него был растерянно-глуповатый – потеря почти полбутылки спирта сбила с него спесь и самоуверенность, а опьянение его было не настолько глубоким, чтобы притупить чувства.
Он сел у костра на корточки, раскачиваясь и глубоко вздыхая. Потом принялся в задумчивости раскуривать сигарету, но в мокрых пальцах она отсырела, и ничего не получалось. Наконец он бросил ее в костер и посмотрел на лошадей.
Вороная кобылка еще кружилась, тряся головой и царапая копытом землю. Жеребец, успокоившись, стоял, медленно вбирая в себя столь мощное, ставшее обвислым, жало.
Манида, глядя на эту картину, стал понемногу веселеть.
– «Кофта белая с плеч свалилася, о, как дорог его поцелуй…» – блаженно щурясь, вдруг запел он, но, оборвав на полуслове старую приблатненную песню, обратился к ребятам: – Мужики, а как на счет того, чтобы порнуху посмотреть в натуре, как есть?
Друзья весьма заинтересованно отнеслись к этому предложению, сопя от предвкушения обещанного.
Догадываясь о том, где они берут спирт, Манида посулил устроить эротический сеанс еще за одну бутылку боярышника.
Предполагаемое мероприятие было столь рискованным, что Иван потом долго удивлялся, как это могло придти Кольке в голову. Но эта сумасшедшая идея овладела незрелым сознанием, полуобморочным от выпивки и подогретого созерцанием конского ристалища, настолько, что ребята, разом вскочив, засобирались бежать туда, куда звал их Манида.
Но Колька был трезвее и соображал отчетливо.
– Братаны! – высокопарно продекламировал он. – В село до вечера носа не совать, там вас застукают и сдадут родителям под ремень. Доканчивайте курицу и в свою берлогу – спать. А вечером, часиков эдак в девять, перед танцами, я жду вас у клуба. И чтобы – молчок! Никому ни слова, а то языки узлами завяжу. Вникли?
«Комсомольцы-добровольцы», горячо божась, стали убеждать его, что они – ни-ни, не проболтаются, суками будут!
Манида, подхватив пиджак, засунул руки в карманы и пошел с беспечным видом по берегу, напевая свою любимую:
Он красивым был, и вино любил,Выпивал за бокалом бокал.Он обнял меня, целовал меня.Панталончики тут же сорвал…Его голос раздавался на пустынном берегу Большого Ломовиса и уносился все дальше, в степь.
Как молодые волчата, радостно поскуливая, приятели вцепились в остов курицы, обобрали все, что было съестного, затем пошвыряли в воду обсосанные кости и осколки глиняной скорлупы с вплавленными в нее перьями.
Все шито-крыто, и – никаких гвоздей!
Положив под головы рванину, которая была в пещере, они завалились там на солому, прочь от постороннего глаза, посасывая по очереди набитую новым табаком трубку и предвкушая предстоящее приключение.
Проснулись уже зябким вечером, когда над рекой тонкой пленкой стелилась голубая дымка тумана, и небо из бледного становилось синим, наливаясь вечерним покоем.
Чтобы придти в себя, ребята выкурили ещё по трубке и подались в село. Пора.
Шли снова огородами, дабы помятые физиономии кого-нибудь не насторожили.
Добрались благополучно, и, воровато нырнув в подвал, в потемках, на ощупь, проливая спирт на пол, нацедили бутылку всклень, затем, нагнувшись ниже линии окон, прошмыгнули в бурьян, а оттуда двинулись в клуб на танцы.
Опасливо сторонясь сверстников, Иван нашел Маниду танцующим с одной из местных невест.
Надо сказать, что бондарские девчата, боясь ославиться, избегали встреч с Манидой, хотя почти каждая втайне мечтала оказаться в его далеко не скромных объятиях.
Вот и теперь девица на выданье, Зинаида Уланова, отстраняясь от Кольки обеими руками, как бы через силу топталась под мелодию танго, всем видом показывая, что вот, мол, ничего я с этим дураком не сделаю, нахал он – да и только!
Манида, увидев Ивана, бросил партнершу прямо посреди зала и зашагал к парню. Зинка залилась краской и быстро шмыгнула в сторону, от стыда подальше.
Зайдя за угол клуба, ребята передали Маниде бутылку, которую он тут же опрокинул в рот, выдернув пробку.
– Не пьянки для, а опохмелки, бля! – смачно крякнув, он вытер тыльной стороной ладони мокрые губы. – Крепкая, зараза!
На улице была уже спелая августовская ночь. Звезды по кулаку величиной развесились, как белые наливы на ветках. Луна огромным красным помидором выкатывалась из-за бугра, отражаясь огненными бликами на мокрых от росы крышах.
Электричества в Бондарях еще не было, и редкие окна желтыми бабочками порхали в черноте ночи. Тишина, как огромное байковое одеяло, накрыла с головой всю деревню. Даже собаки, и те замолчали – не с кем было спорить.
– К училке вас, что ли, сводить? – скребя затылок, предложил Манида.
Мишка радостно закивал головой, возбужденно потирая руки.
Ивану почему-то совсем не хотелось идти к химичке. В его эротическом воображении для нее не было места. Для Метелкина училка была бесполой, и вероятное созерцание ее, трепещущей под Манидой, не вызывало никакого энтузиазма. Да к тому же это было небезопасно – вдруг она их заметит? Тогда прощай, школа! Выгонят.
Поэтому Иван, переминаясь с ноги на ногу, стал отнекиваться.
– Ну, ладно, уговорил! – хлопнул его по плечу Манида. – Пойдем к Машке Зверевой, та без уговора дает, – и он, повернувшись, быстро нырнул в темноту.
Подростки, тычась «Сусанину» в спину, трусили сзади, задыхаясь от предчувствия приключений.
У Маньки в окне света не было, перед ними зияли только черные провалы, глубокие, как разинутые глотки.
Колька постучал коротким условным стуком – тишина! Он постучал еще раз. Стало слышно, как скрипнула половица и кто-то, зевая, шарящим движением стал нащупывать дверную задвижку.
Пацаны быстро нырнули за угол в ожидании своего момента.
В ответ на Колькино настойчивое требование послышался неразборчивый быстрый-быстрый шепот, а затем несколько раз: «Нет, не могу! Гости!»
Поводырь по неизведанным тропам Венеры, матюгнувшись, отлепился от двери, и тут же звякнула щеколда – все, крышка!
«Комсомольцы» разочарованно затрусили за тёмным Колькиным силуэтом. Куда он теперь?..
Манида, чиркнув спичкой, выхватил из темноты клочок света, остановился, прикурил, протягивая ребятам мятую пачку.
Вытащив по сигарете, они так же молча прикурили от его огонька и пошли дальше по самой середине улицы, загребая ногами невидимую теплую пыль.
Иван стал осторожно расспрашивать, что за гости у Машки Зверевой – вроде все время живет одна и никаких гостей не принимает…
– Какие там гости! – Манида снова заматерился. – Демонстрация у нее!
Иван опешил:
– Какая демонстрация? Седьмое ноября, что ли? Или Первое Мая?
– Какая, какая! Такая, с красными флагами на целых три дня!
Иван так и не понял, что за демонстрация у Машки в конце лета, но переспрашивать не стал.
– Так, мужики, верняк! Пойдем к Нинке Чалой, у той охотка всегда есть, – Манида повернул в ближайший переулок, увлекая школяров за собой.
Луна уже вывалилась из-за холма и, наливаясь белым молоком, медленно поднималась над крышами, заглядывая в низкие молчаливые окна: чтой-то там люди делают в такую позднюю пору? А люди стонали, ворочались, храпели, ругались, занимались любовью… Велика матушка-ночь, времени хватит на все.
Стало так светло, что среди замершей листвы раскидистых яблонь светились белые кругляши, но сегодня было не до яблок, «пилигримов» ждали другие плоды, от которых, как говорят, никогда не бывает оскомины.
Нинкин дом низкий, с осыпавшейся глиняной штукатуркой, из-под которой, как тюремная решетка, белела крест-накрест дранка, стоял на Лягушачьей улице, прямо у самой реки. Чувствовалась зябкая влага, запах гниющих водорослей пропитал воздух. Здесь на огородах до самой осени не успевали высыхать бочажки воды от весеннего разлива. Улица заросла каким-то дуроломом, и надо было раздвигать кусты, пробираясь через росистые джунгли.
В черных Нинкиных окнах огненной мухой кружилась красная точка горящей сигареты.
Снова не повезло! Ранний гость и здесь опередил.
Поторчав у дома, ночные странники, спотыкаясь о какие-то корневища, вышли снова в проулок и остановились с намерением разойтись по домам. Манида достал из кармана подаренную бутылку, виновато предлагая распить её.
Дневной хмель еще никак не хотел отпускать подростков, накатываясь и толкаясь мягкой волной в затуманенном сознании.
Ну что ж, выпить – не вылить!
Мишка перемахнул через забор под горбатую согбенную яблоню, и через секунду послышался частый тяжелый стук – он добросовестно помогал старушке освободиться от сладкого груза. Иван с Манидой на всякий случай нырнули под куст – вдруг хозяин с дробовиком выйдет!
Но вот показался их товарищ с раздутой на животе рубахой.
Действительно, пить без закуски, на сухую, спиртовую жгучую настойку – дурной тон!
Выпили и смачно захрумкали сочными августовскими наливами.
Вкус яблок после спирта ощущался не сразу, зато потом заливающий гортань сок смывал всякое присутствие алкоголя, и выпивохи, довольные, одобрительно хлопали добытчика по спине.
Настроение поднималось, оживление возрастало, пробуждались и тёмные желания.
За селом, на самом бугре, обшаривая дорогу светом, шла какая-то припозднившаяся машина.
Манида задумчиво посмотрел в ее сторону.
– Во, сучара! Как же я про Косматку забыл? – он радостно хлопнул себя по бокам. – Та наверняка свободна, падлой буду! Дороги хорошие, шоферня вся по домам ночует. Я как-то по пьяни обещал к ней зайти. Теперь самое время!
Катька Семенова, по прозвищу Косматка, дочь которой училась с Иваном и Мишкой Спицыным в параллельном классе, содержала нелегальный постоялый двор, или попросту притон для всякого бродячего люда, включая всю областную шоферню.
Дело в том, что месяца три-четыре в году бондарские дороги превращались в сплошное месиво, и транзитные люди неделями маялись у Катьки дома, расплачиваясь с ней, кто деньгами, а кто и натурой.
Жила Косматка без хлопот и весело, поэтому ее дочь, бледная тихоня Маруська, большую часть времени вынуждена была коротать у подружек и сердобольных соседей.
Милиция Косматку не трогала – сама была не дура погудеть на дармовщину. Самогона у Катьки было всегда вдоволь.
Опустив недопитую бутылку в карман, Манида с воодушевлением пошагал в сторону базарной площади, где жила в большом, похожем на барак, доме Косматка, и его спутники, повизгивая, засеменили следом.
На этот раз осечки быть не должно, уж очень целеустремленно вышагивал наставник.
Напротив памятника Ленину, прямо там, куда указывал воздетой рукой Ильич, стоял на два крыла с дощатым крыльцом посередине, под крытой серебряной осиновой щепой крышей этот своеобразный дом приезжих. В одном из окон, дразня красным языком, чадила керосиновая лампа со щербатым стеклянным пузырем. Судя по тому, что окно не зашторено, Катька ночевала одна; постояльцы все разъехались, а дочь проводила лето в соседнем селе у какой-то родственницы.
Манида уверенно взошел на крыльцо и резко звякнул щеколдой.
– Щас, щас! – послышался скорый ответ.
Хозяйка, вероятно, по привычке никак не могла заснуть одна.
Оба друга прижались к стене, Манида жестом велел им оставаться здесь и смело шагнул в черную пасть сеней. Через миг в окне заметалась огромная лохматая тень, и занавеска тут же была задернута.
Больше Колька не появлялся и никаких знаков не подавал.
Как две ночные птицы, Иван с Мишкой сидели у стены на корточках, покачиваясь в начинающей валить дремоте. Сколько они так просидели – час или больше – они не знали, только вдруг резкая струя, ударив где-то поблизости, разбудила бедолаг: голый Манида стоял перед ними и мочился на угол дома.
Отряхиваясь от брызг, дозорные быстро вскочили на ноги. От неожиданности Маниду швырнуло в сторону. Похоже, он был пьян под завязку. Тупо уставившись на ребят, он крутанул большой головой:
– Во, петухи гамбургские! Чуть вас не смыл. Чего вскочили, а не кукарекаете? – Манида пятерней почесал под животом. – «Вышел Колька на крыльцо почесать своё яйцо»… Ну, щас я вам картину Репина покажу под названием «Не ждали». Пошли! – и, сверкнув под высокой луной бледным задом, стал шатаясь подниматься по ступенькам.
Двери в сени были распахнуты, и компания бесшумно провалилась в провонявшую соляркой и бензином темноту. Похоже, что постояльцы, кроме всего прочего, занимались здесь и мелким ремонтом – чинили свои разбитые «Газоны» и «Зисы», оставляя после себя, как водится, лишние детали.
Резко распахнув избяную дверь, Манида толкнул ночных гостей вперед, и они оказались в душной комнате, пропахшей срамом и алкоголем.
Комната еле освещалась лампой-семилинейкой. Были когда-то такие, под стеклянными пузырями.
Напротив, прямо перед глазами любопытных зрителей, свесив до пола распахнутые ноги, поперек кровати лежала Катька Косматка. Головы не было видно, только над голым животом спущенными футбольными камерами лежали груди с короткими черными сосками, то ли для того чтобы надувать эти спущенные камеры, то ли еще для какой цели.
Между раскинутых ног (Иван не сразу сообразил, что это) топорщилось какое-то темное разворошенное гнездо, в середине которого маленький розовый птенец жадно разевал рот.
Зачем он здесь?! Невозможность ситуации приковала его к половицам. Он не мог поверить, что перед ним лежала голая женщина, готовая к выполнению предназначенных ей природой действий.
Манида обнял замерших зрителей:
– Подходите ближе, она не кусается – зубов нету, одни губы.
Приятели ошалело хлопали глазами.
– А, чего боитесь? Катька уже хорошая! Она почти всю бутылку одна засосала, да еще самогонки добавила, – он подошел и легонько ладошкой пошлепал ее по растрепанному гнезду.
Женщина никак не отреагировала, подставляя свету всю свою срамоту.
– Навались, подешевело! – ерничал Манида, раздвигая двумя пальцами, указательным и средним, темные заросшие губы. Иван с ужасом увидел рассеченную, зияющую рану, от которой не было сил отвести глаз. Его почему-то охватила такая дрожь, что застучали зубы.
Мишка оказался впереди, расстегивая трясущимися руками брюки. Он во всем хотел быть первым. Да Иван и не настаивал на обратном.
Колька по-отцовски снисходительно приободрял: «Давай, давай!» – когда Мишка Спица, сын врачихи, вдруг заходился в припадочном экстазе.
…Иван помнил только непролазный чертополох и заросли колючей ежевики, потом какое-то чавкающее болото, в котором он тонул и задыхался. И – все!
Ему тогда показалось, что пьяная растрепанная женщина лишь притворялась таковой. Когда Иван пробирался сквозь кустарник, тонул и задыхался, ему мерещилось её тихое хихиканье.
От стыда, от необратимости сделанного, Иван, не обращая внимания на ободряющие восклицания Маниды, пулей выскочил на улицу.
Страшная ночь встала перед ним. Какая-то неестественность белых крыш, домов, деревьев. Он не помнил, как очутился на берегу Большого Ломовиса.
Тишина и черная вода омута.
Липкие нечистоты сочились из каждой его поры. Иван не мог прикоснуться к себе без омерзения. Скинув на холодный песок одежду, он стоял перед наполненной ночными страхами темной водой с непреодолимым желанием соскрести ногтями с себя эти нечистоты, смыть их.
Закрыв глаза, Метелкин шагнул по пояс в кромешную тьму, которая неожиданно оказалась ласковой и теплой.
Набрав полные горсти песка с илом, Иван стал тереть себя, как грязную закопченную утварь.
Раскапюшонив свой мужской придаток, он опорожнил его, пустив омерзительную струю вниз по течению. Потом натер его песком, илом, листьями мать-мачехи и, морщась от боли, стал промывать водой эту погань, этого дождевого червя, эту мразь…
Луна дробилась перед ним и разбегалась рыбной мелочью, поблескивая на речной ряби.
Плескаясь и моясь снова и снова, Иван не выходил из воды, пока его не стала колотить холодная дрожь.
Он добежал до своего дома и быстро нырнул в сарай, где спал почти все лето на сеновале.
После купания все, что произошло, стало казаться Ивану дурным сном. Такого быть не может, потому что такого не может быть. Какое-то кошмарное наваждение!
Уткнувшись носом в теплую подушку, он проспал до самого обеда, пока солнце не накалило крышу, и не стало нестерпимо жарко. Вчерашнего происшествия не было. Молодость забывчива.
Вечером Иван уехал с отцом на целых два дня в лес, где для них была выделена делянка для заготовки дров на долгую зиму.
Натрудившись в лесу, Иван вернулся домой усталый и счастливый. Дурной сон забылся, и он снова почувствовал себя свободным и неуязвимым.
Перед ужином к нему зашёл Мишка Спицын с озабоченным видом. Спрятавшись за домом, Мишка затянулся куревом и качнул годовой:
– Во, елки, чего-то молофья у меня с конца выделяется и режет как-то…
Хотя они с Иваном были одногодками, Мишка, то ли от хорошего питания, то ли порода у него была такая, рос быстро и крепко. Он был почти на голову выше Метелкина, да и в плечах пошире. И ночные видения, от которых становилось тревожно и сладостно, у него тоже появились гораздо раньше и приходили чаще. В этом Иван ему всегда завидовал и с интересом слушал его очередные сновидения.
– Ну-ка, покажи! – заинтересовался Метелкин.
Спицын расчехлил свой ствол и надавил на его конец.
– Во, елки! Мокнет чего-то, а не щекотно, как всегда…
Иван его успокоил, сказав, что это, наверное, так и должно быть, если во сне случается, – мужская сила выходит. Мишка немного приободрился, и на время эта тема была забыта.
Но на следующее утро, покуривая под сиреневым кустом в больничном дворе, друзья сквозь железные прутья ограды увидали непривычно озабоченное лицо шагавшего к Мишкиному дому Маниды. Тот, еще не замечая ребят, остановился в раздумье у калитки.
Иван тихонько и протяжно свистнул. Манида, вздрогнув, резко повернул голову на свист, но никого не заметил и снова потянулся рукой к калитке.
Иван свистнул еще раз, высовываясь из-за куста. Манида с удрученным и хмурым видом подозвал их кивком к себе.
«Что-то случилось», – насторожился Метелкин.
Перед тем как идти к Мишке, Ивану пришлось заглянуть в сельповский магазин, чтобы купить сигарет. Деньги, хоть и малые, у приятелей были общие, и на курево всегда хватало. Возле магазина его чуть не сшибла с ног спешившая куда-то Катька Косматка. Лицо ее было, как от зубной боли, перетянуто белым в горошек платком, а под глазом чернел кровоподтек таких размеров, что его, кажется, нельзя было прикрыть даже ладонью.
– Челюсть сломала. Говорит, в погреб сорвалась, – на осторожный вопрос Ивана ответила Светка Дубовицкая – сельмаговская продавщица, безнадежными поклонниками которой были все местные кавалеры.
«Прынца ждет!» – говорили про Светку завистливые бабы.
Местные – пьянь и рвань – ей не подходили, а других не было…
Светка, погрозив Метелкину пальчиком с ярким и маленьким, как божья коровка, ноготком, незаметно сунула пачку болгарских сигарет, и он подался к своему товарищу, соображая по дороге, как можно в одно и тоже время сломать челюсть и поставить под глаз фингал?
Друзья подошли к Маниде, которому было сегодня явно не до шуток, весело поздоровались. Тот пристально посмотрел на них и повел за угол больничной прачечной, которая стояла напротив Мишкиного дома в зарослях все той же вездесущей сирени.
– Hy-ка, покажи! – непривычно сухо сказал Манида, обращаясь к Ивану, как только они завернули за угол.
– Чего показать-то? – недоуменно спросил Иван.
– Чего-чего? Секулёк покажи!
– На, смотри! – он что есть силы сжал свой «сосок».
– Не режет? – заботливо спросил Манида.
– Резать не режет, а так, иногда чешется.
– Ну, если чешется, то это нормально, – похлопал парня по плечу повеселевший Манида.









